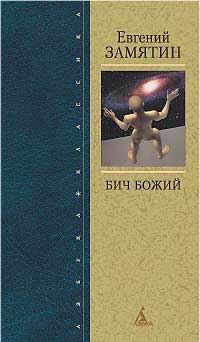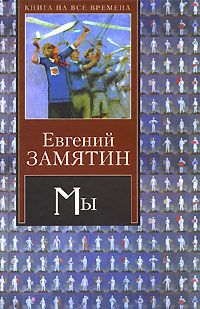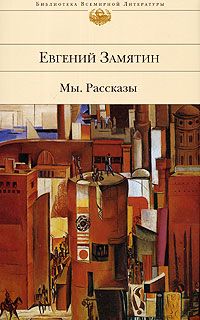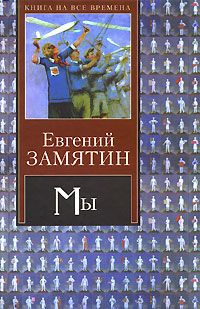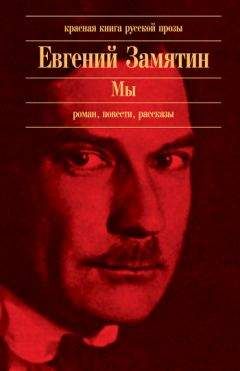пишу слово „
паутина“ – и мысль начинает разматываться, и мне приходит в голову учитель реального училища, который говорил тягуче, имел любовницу – девицу из кондитерской; эту девицу он называл Милли, а подруги на бульваре звали ее Сонька-Пузырь».
Смотрите, какая богатая и причудливая ассоциация, связанная с одним только словом «паутина». Творческая мысль писателя работает так же, как у всех людей во сне. Мы нечаянно трогаем во сне горло холодной перламутровой пуговицей на рукаве. В нормальном состоянии, когда сознание трезво работает и контролирует наши ощущения, никаких ассоциаций, никаких эмоций это прикосновение пуговицы не вызовет. Но во сне, когда сознание послушно подсознанию, прикосновение пуговицы тотчас же ассоциируется с прикосновением холодного стального ножа – и в какую-нибудь долю секунды мы увидим: нож гильотины – мы осуждены на казнь – в тюрьме – на двери луч света из узенького окошка, блестит замок – замок звякнул, это входит палач, сейчас поведут…
Эту способность к ассоциированию, если она вообще есть, можно и нужно развить путем упражнений. И это мы попробуем. Дальше мы увидим, что в числе художественных приемов – один из тончайших и наиболее верно достигающих цели – рассчитан на сообщения мысли читателя определенных ассоциаций, необходимых для достижения известного, задуманного автором эффекта.
* * *
Откуда и как родится у писателя сюжет? Из жизни? Но разве Толстой видел всех людей, которые проходят через его «Войну и мир», – Болконского, Пьера, Наташу, Ростовых? Разве он видел Наполеона, умершего за десятки лет до написания «Войны и мира»? Разве Гофман видел архивариуса Линдгорста и студента Ансельма, посаженного архивариусом в стеклянный сосуд? Разве Достоевский видел Карамазовых? Разве Андрей Белый видел своего геометрического сенатора Аполлона Аполлоновича, и Липанченко, и Александра Ивановича, и всех других действующих лиц из «Петербурга»? Разумеется, нет. Все эти люди – живые люди – и Болконский, и Пьер, и Наташа, и Ростовы, и Карамазовы, и сенатор Аполлон Аполлонович, – все они рождены писателем из себя.
Правда, у того же Толстого в «Детстве» фигурируют действительно существовавшие люди; у Горького в его «Детстве» – тоже, в других его вещах тоже часто зарисованы живые, взятые из жизни люди. Правда, такое как будто бы непосредственное перенесение жизни на страницы книги мы встречаем у реалистов, особенно в произведениях автобиографического характера. Но даже и здесь – можно сказать с уверенностью – события и лица изображены не так, как они были на самом деле: действительные события и лица служили писателю только материалом. Тем более это нужно сказать о писателях-символистах и неореалистах, у которых мы часто встречаем фантастику и гротеск, то есть то, чего в действительности не бывает.
Жизнь служит для писателя только материалом. Всю форму постройки, всю ее архитектуру, всю ее красоту, весь ее дух создает сам автор. Архитектор Браманте построил собор Святого Петра в Риме из камня: но камень – только мертвый материал, жизнь в этот камень вдохнул Браманте. Репин в своей картине «Иван Грозный» писал Иоанна с какого-то натурщика; но из этого взятого из жизни натурщика он сделал Иоанна. Так и для писателя: наблюдаемые в жизни события, встречающиеся живые люди являются не более, чем был камень для Браманте, не более, чем был натурщик для Репина. Писатель, который может только описывать жизнь, фотографировать события и людей, которых он действительно видел, – это творческий импотент, и ему далеко не уйти.
Из этих камней, которые писатель берет из жизни, сюжет складывается двумя путями: индуктивным и дедуктивным.
В первом случае индукции процесс развития сюжета идет так: какое-нибудь мелкое и часто незначительное событие – или человек – почему-нибудь поражают воображение писателя, дают ему импульс. Творческая фантазия писателя в такой момент, очевидно, находится в состоянии, которое можно сравнить с состоянием кристаллизующегося раствора: в насыщенный раствор достаточно бросить последнюю щепотку соли – и весь раствор начнет отвердевать, кристалл нарастает на кристалл – создается целая прихотливая постройка из кристаллов. Так и здесь: такой импульс играет роль последней щепотки; ассоциации – роль связующего цемента между отдельными кристаллами мысли. Углубляющая весь сюжет идея, обобщение, символ – является уже после, когда большая часть сюжета окристаллизовалась.
Другой путь – дедукция, – когда автор сперва задается отвлеченной идеей и затем уже воплощает ее в образах, событиях, людях.
Как тот, так и другой путь одинаково законны. Но второй путь, дедукции, – опасней: есть шансы сбиться на схоластическую хрию.
Как на пример первого пути создания сюжета – индуктивного, укажу на факт, рассказанный Чуковским в его воспоминаниях о Л. Андрееве. Однажды Андреев прочитал в записках Уточкина: «При вечернем освещении наша тюрьма – необыкновенно прекрасна…» Отсюда – «Мои записки», кончающиеся как раз этой фразой.
Еще пример – «Чайка» Чехова. Однажды он был в Крыму вместе с художником Левитаном – на берегу моря. Над водой летали чайки. Левитан подстрелил одну из чаек и бросил наземь. Это было такое ясное зрелище – ненужной, зря умирающей, убитой красивой птицы, что оно поразило Чехова. Из этого мелкого факта, запомнившегося Чехову, – создалась пьеса «Чайка».
Иногда факт, послуживший импульсом для сюжета, совершенно выпадает из произведения. Так случилось с моей повестью «Островитяне»…
Примером дедуктивного пути создания сюжета могут служить многие произведения символистов, – хотя бы пьеса Минского «Альма» или «Навьи чары» Сологуба, явно написанные à thèse – чтобы доказать преимущество Дульцинеи перед Альдонсой. Сюжет арцыбашевских «Санина», «У последней черты», горьковской «Матери» тоже явно создался дедуктивным путем; этим путем – все проповеднического типа вещи. Как я уже говорил, этот путь опасен и сюжеты, создавшиеся таким путем, редко выливаются в безукоризненно-художественную форму.
Итак, теперь мы имеем представление о том, как зарождается сюжет. Но вот сюжет – в эмбриональной форме – уже есть. Что ж делать дальше? Нужен ли дальше план, схема повести или рассказа?
Решить этот вопрос в общей форме трудно. Но на основании моего опыта я скажу, что торопиться с планом не следует. Составленный в самом начале работы план – стесняет работу воображения, подсознания, ограничивает ассоциативную способность. Творчество приобретает слишком обдуманный, чтобы не сказать – надуманный характер. Я рекомендовал бы начинать с другого: с оживления людей, с оживления главных действующих лиц. Второстепенные персонажи, разумеется, могут появиться и ожить во время дальнейшей работы; но главные персонажи всегда есть уже в самом начале. И вот надо добиться – все тем же самым приемом «сгущения мысли», о котором говорит Флобер, – надо добиться, чтобы эти