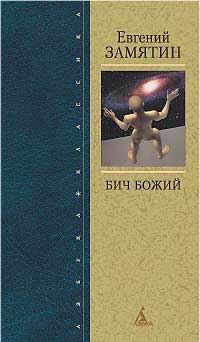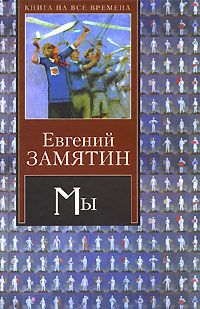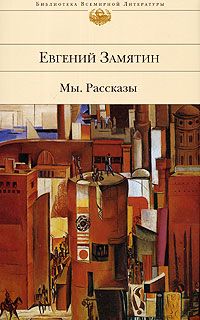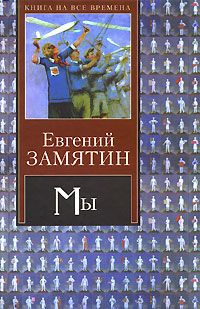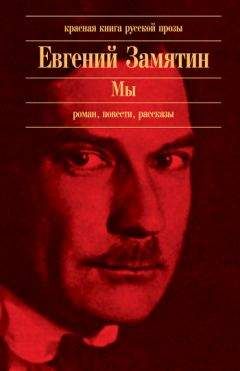мне остается сказать еще об одном недостатке, свойственном большинству русских писателей, включая самых крупных мастеров художественного слова: это бедность фабулы, интриги в русских романах, повестях и рассказах. Особенно это относится к писателям новейшего периода, обозрению творчества которых была посвящена моя первая лекция. Богатейшая фабулистическая изобразительность была у Толстого, у Достоевского, у Лескова; из второстепенных авторов – у Болеслава Маркевича. А затем русская литература занялась усовершенствованием формы, языка, углублением психологических деталей, разработкой общественных вопросов; фабула же была забыта. Форма и психологическая сторона в художественной прозе развивались и ушли гораздо дальше западноевропейских образцов, но это произошло за счет обеднения фабулы. Таких мастеров фабулы и интриги, как Лесаж, Дюма, позже Мопассан, Флобер, Бурже, Конан Дойль, Уэллс, Генрих Манн, – в русской литературе теперь нет. Фабулой интересовались и фабулу культивировали у нас в последнее время писатели третьестепенные, скорее даже бульварные, вроде Вербицкой и Нагродской. Настоящие же мастера художественного слова как-то даже пренебрежительно относились к фабулистической стороне и как будто даже считали ниже своего достоинства интересоваться фабулой. И совершенно напрасно: результатом было то, что, по статистическим данным библиотек, больше всего читались именно бульварные, третьестепенные писатели, вроде Вербицкой. А такие мастера и художники слова, как Бунин, – стоят на полках. У Бунина часто фабула скучна. Нельзя забывать этого неоспоримого афоризма: «Все роды литературы хороши – кроме скучной». Писателю нынешнего дня на фабулу придется обратить особое внимание. Прежде всего – меняется читательская аудитория. Раньше читателем был главным образом интеллигент, способный подчас удовлетвориться эстетическими ощущениями формы произведения, хотя бы развитой в ущерб фабуле. Новый читатель, более примитивный, несомненно, будет куда больше нуждаться в интересной фабуле. Кроме того, есть еще одно – психологическое – обстоятельство, которое заставляет теперь писателя обратить большее внимание на фабулу: жизнь стала так богата событиями, так неожиданна, так фантастична, что у читателя вырабатывается невольно иной масштаб ощущений, иные требования к произведениям художественного слова: произведения эти не должны уступать жизни, не должны быть беднее ее.
Из искусственных приемов повышения интереса читателя к фабуле я обращу ваше внимание на три приема.
Первый – это то, что я назвал бы фабулистической паузой. Обычно это бывает при наличности переплетающейся фабулы: рассказ прерывается на очень напряженном и драматическом месте – и автор обращается к развитию второй, параллельной фабулы; этим развитием и заполняется намеренная пауза. Такая пауза, естественно, усиливает нетерпение читателя узнать: чем же кончится так неожиданно прерванное изображение какого-нибудь очень драматического события? Ex. Лесков. «Запечатленный ангел».
Второй прием – задержание перипетий.
Третий прием заключается в намеренном запутывании фабулы. Путем искусных намеков автор заставляет читателя прийти к ложному выводу о разрешении какого-нибудь фабулистического конфликта – и затем неожиданно обрушивается на читателя действительным разрешением конфликта. Ex. «Север».
В чем разница между поэзией и прозой? И есть ли она? Поэты-стихотворцы еще оспаривают привилегию составлять особую художественную церковь. Но для меня ясно: между поэзией и художественной прозой нет никакой разницы. Это – одно.
В старых теориях словесности вы найдете такое разделение, но теперь оно уже утеряло свой смысл. Теперь мы не в состоянии различить, где кончается поэзия и где начинается художественная проза.
Внутренние изобразительные приемы в поэзии и прозе – idem метафоры, метонимии, синекдохи и т. д. Внешние изобразительные приемы в поэзии и в прозе – когда-то разнились. Но теперь мы имеем стихи без рифм, мы имеем стихи без определенного ритма – vers libre. Ex. Гёте «Горные вершины». Целый ряд стихов Блока (Ex.).
С одной стороны, в новейшей художественной прозе мы находим часто пользование определенным ритмом; с другой – в прозе мы находим пользование музыкой слова – весь арсенал новейшей поэзии: аллитерации, ассонансы, инструментовку. Стало быть, резко – по внешности – от художественной прозы отличается только стихотворение с определенным метром, то есть только один частный случай стихотворения. В остальных случаях никакой качественной границы нет.
В новейшей теории словесности я вижу разделение всех вообще произведений художественного слова на два вида: лирика и эпос; иначе говоря: раскрытие, изображение в словах авторской личности – и изображение других, посторонних автору личностей. Лирика – это путешествие по нашей планете, по той планете, на которой живешь; эпос – путешествие на другие планеты, эпос – путешествие сквозь междупланетные, безвоздушные пространства, ибо люди, конечно же, разные планеты, отделенные друг от друга замороженным, с температурой −273°, пространством.
И вот если уж говорить о каком-нибудь качественном различии между поэзией и художественной прозой, так его можно определить: поэзия занимается главным образом областью лирики, художественная проза – областью эпоса. И быть подлинным мастером в области художественной прозы настолько же труднее, насколько междупланетное путешествие труднее путешествия по нашей планете.
Рассказчиком, настоящим рассказчиком о себе является, строго говоря, только лирик. Эпик же, то есть настоящий мастер художественной прозы, всегда является актером, и всякое произведение эпическое есть игра, театр. Лирик переживает только себя; эпику приходится переживать ощущения десятков, часто – тысяч других, чужих личностей, воплощаться в сотни и тысячи образов. «У писателя, – говорит Гейне, – в то время, как он создает свое произведение, на душе так, как будто он, согласно учению Пифагора о переселении душ, вел жизнь на камне под различными видами; его вдохновение имеет все свойства воспоминания». Ясно, что писатель-эпик должен быть большим, талантливым, гениальным актером. Диапазон ролей, так же как у обыкновенных театральных актеров, у писателей часто бывает ограничен: Гоголь был комик, и когда он пытался сыграть роли трагические или благородные, это у него не вышло; и наоборот, у Тургенева, прирожденного первого любовника, никогда не выйдет комическая роль. Но вообще диапазон ролей у писателя неизмеримо обширней, чем у актера театрального; способность перевоплощения у писателя – гораздо богаче. И у некоторых авторов она достигает изумительных, непостижимых пределов: таков был Диккенс.
Итак, остановимся на этом тезисе: эпическое произведение, то есть нормальный образец художественной прозы – есть театр, игра; писатель – актер. Какой же отсюда следует практический вывод относительно языка, стиля? Вывод будет зависеть от того, какую из теорий театральной игры мы признаем для себя наиболее приемлемой.
В классическом театре, в греческом, вы знаете – была теория условной игры. То есть актеры вовсе не заботились о том, чтобы заставить зрителя забыть, что он видит не актеров, не сцену. Актеры играли в грубых, условных масках; условны были декорации. Теперешняя игра без маски, с гримом была бы сочтена художественным преступлением, дурным тоном. Тот же тип игры сохранился по