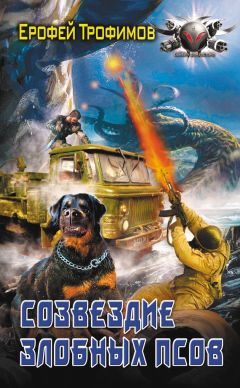и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:
– Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.
Мари засмеялась.
– Не смейтесь, – сказал ей Щедрин и тронул струны. – Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат [2]. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных обледенений.
Мари поежилась.
– Не нужно их больше, – серьезно сказала она.
– Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только, что мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.
– Теплый?
– Очень, – ответил Щедрин. – Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!
– Что это значит – одуреть? – спросила Мари.
– Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом – сходить с ума.
– Очень хорошо! – сказала Мари. – Но что нужно для этого?
– Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные ра- боты, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.
– Как вы дошли до этого?
Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.
– А это зачем? – сказал он. – Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.
Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть, поэтому от луж долетали маленькие волны озона.
– Сыграйте, – попросила Мари. – Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.
– Это не сказки, – сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина». – Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.
Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек – худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.
Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.
Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.
Мари пошла к Летнему саду.
Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.
Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.
Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными акварелью. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение, – но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.
Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.
Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.
Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стеклянный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо равелинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.
За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.
Милиционер открыл глаза.
– Начинается подготовка, – сказал он Мари. – Освещают лучшие здания.
– Какая подготовка? – спросила Мари.
Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.
– К празднику, – сказал милиционер. – В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмотрюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь – горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.
Мари застенчиво улыбнулась.
– Я в гребной школе учусь, – сказал милиционер. – Выезжаю на аутригере [3] в море. Выплывешь вечером – города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.
– А вы где стоите в городе? – спросила Мари.
– Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.
– Я шведка.
– А-а-а… – сказал милиционер. – Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.
На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.
– Я не боюсь, зачем! – смущенно говорила Мари. – Вы работали, устали.
– Да вы не беспокойтесь, – уверял ее милиционер. – Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда – прямо в Сестрорецк. На выдержку.
У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.
К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.
Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков – встречу двух поколений.
После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.
Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.
Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.
Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это «что-то» было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом.