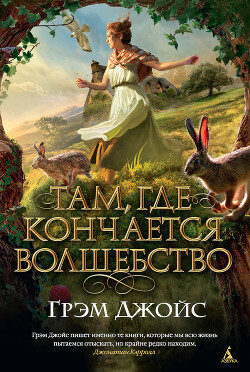– Мне надо было прийти пораньше, – сетовала Джудит. Она поднесла стакан воды к моим губам, я выпила. – Я виновата.
– Ей плохо? – допытывался Чез.
– По-моему, нет. Только губы пересохли, а так ничего.
Чез подошел поближе и встал передо мною на колени, вглядываясь в глаза.
– Черт подери, да у нее зрачки расширены. Ты только погляди!
– Она все слышит, – произнесла Джудит. – Это ж не твои дружки, у которых мозги сразу в кашу превращаются. Она все понимает.
– Что-то не похоже.
Мне очень хотелось крикнуть Чезу, чтобы он убрался с глаз долой. Он на меня дышал. Зачем она его притащила?! Но меня хватило только на то, чтобы моргнуть.
– Она моргнула! – возрадовался Чез.
– Наверное, имела в виду, чтобы ты шел в жопу, – сказала Джудит.
Спасибо, Джудит. В его глазах читалось сомнение. Он почесал подбородок и встал.
– Здесь есть чем поживиться?
– Ради бога, ничего не трогай. Если хочешь быть полезным, завари чаю.
Джудит дала мне еще глотнуть воды. Пока Чез занимался чаем, она прильнула ухом к моей груди, послушала сердцебиение: не учащенное ли. По-моему, осталась довольна.
Вернувшись в комнату, Чез все обнюхал и обшарил. Не знаю уж, что он искал, но Джудит несколько раз просила его угомониться. Я видела только то, что передо мной, но даже спиной чувствовала, как он суется во все наши укромные уголки и норки. Мне стало не по себе.
Джудит смочила водой фланелевую тряпку и вытерла мне лоб и шею. До этого я даже не подозревала, как мне жарко. Потом она обтерла подбородок, – наверное, он был весь в слюнях. Когда они сели пить чай, она шепнула ему что-то на ухо – чтобы я не слышала. На это Чез схватил ее за волосы и смачно поцеловал в губы. Она притворилась, будто отталкивает его. Они игрались, как котята.
Потом он пошел наверх. Над головой заскрипели старые доски. Джудит прикрикнула, чтобы он спускался. Сказала, чтобы он кончал совать свой нос куда не надо, но в результате сама последовала за ним, и через некоторое время все стихло.
С меня довольно, решила я. От передышки у меня прибавилось сил; я наконец-то смогла подняться и выйти из дома. По крайней мере, не пришлось лезть в форточку: они оставили дверь открытой. Очнутся – а меня и след простыл. Пусть возятся друг с другом – мне лучше одной.
Каким-то непонятным образом я снова очутилась у пятикольчатых ворот. Я все стояла, привалившись к ним, и наблюдала за микроскопическими красными клещиками, которые копошились в изумрудной зелени лишайника, заполнившего щели в серебристом дереве. Тут голос – вроде мой, но тоном больше походивший на Мамочкин – сказал: «Вперед, девулька, пошевеливайся, если не хочешь тут застрять». Вот в чем, оказывается, была загвоздка. Я застряла.
Мамочка предупреждала, что это главная сложность при Обращении. Заглядываясь на что-то, скажем на бегущий ручеек или на копошащихся клещиков, ты застреваешь. Тебя уносит, как рекой, и выплевывает где-то дальше по течению – опустошенным и потерянным. Мамочка говорила, что такое происходит не только во время Обращения. В обычной жизни мы тоже застреваем: засыпаем, забившись в угол, и просыпаемся через семь, а то и через семьдесят лет, а жизнь уже прошла. Вот ты еще за школьной партой, и не успеешь моргнуть, как дети уже ходят в школу, а ты все пропустил – застрял. Мы слишком любим спускать жизнь на тормозах, а так нельзя, с этим нужно бороться. И только тогда, в тот день, я наконец-то поняла, о чем она говорила. И сказала себе: вперед, девулька, пошевеливайся.
И я пошла вперед – дорожкой, бегущей вдоль кромки леса, заново обретая способность двигать ногами, медленно прорезая гладь волшебного, искрящегося металлизированного света, заполнившего воздух. Вдруг я заметила, что с этим светом что-то происходит: местами он подернулся фиолетовым, и фиолетового становилось все больше. Из мягкого, сияющего холодного металла он превратился в более зыбкую субстанцию, похожую на паутинку утреннего тумана, и начал опадать с деревьев, кустов и трав. Я чуть не испугалась, но тут же рассмеялась собственной глупости: ведь это был не цвет и не субстанция, а просто-напросто заря. Рассвет уже почти занялся.
Как только я могла принять зарю за цвет?!
Но вместе с облегчением пришла тревога. Мне нужно было срочно найти подходящее место, укромный уголок, пока меня никто не заприметил. Тут я увидела трех дроздов и страшно этому обрадовалась: выходит, все-таки за мной присматривают, и, может быть, не только они. Я приостановилась, чтобы понаблюдать за ними; облокотилась рукой о дерево; перевела дух. Почему-то я запыхалась: наверное, из-за нервов и неожиданного приступа радости – ведь шла-то я не быстро. Отняв руку от дерева, обнаружила, что вся моя ладонь покрыта налипшей на кору зеленой пылью.
Густо измазав ею руки, я принялась втирать зеленую пыль в лицо. Она ложилась мягко – как уголь, только ярко-зеленого цвета, цвета весенней поросли. В укромном уголке леса, на излучине тропинки, я нашла себе местечко – крохотный островок в спутанных зарослях терновника, кизила и остролиста.
Это была добротная, пышная живая изгородь, известная у нас как бычья, поскольку могла сдержать бегущего быка – настолько прочная. Вот в ней-то и открылся мне крошечный, зовущий внутрь просвет с мягкой подстилкой из травы и гарантией полного уединения. Как только я туда вошла, терновник и кизил с шуршанием сомкнулись за моей спиной. Я поняла, что здесь можно просидеть хоть целый день, и никто меня не увидит. Я страшно возгордилась, что нашла такое идеальное место. Любой шагавший по тропинке смотрел бы только вперед, и даже если он или она случайно натолкнулись бы взглядом на мое убежище, наверняка ничего бы не заметили. Мне было тепло. Мне было удобно. Мне было спокойно. А главное, мне было интересно, что будет дальше. Я закрыла глаза и принялась ждать.
Но тут, похоже, я опять застряла. Открыв глаза, услышала, как Джудит с Чезом спускаются по лестнице. Я запаниковала, решив, что все мне только привиделось: что я не выходила из дома, не нашла укромного местечка, не устроилась на волшебном островке средь леса.
Первым передо мною предстал Чез. Он посмотрел на меня и сказал:
– Она вернулась.
– Слава богу! – воскликнула Джудит. – Где тебя носило?
Ответить я не могла, поскольку язык был по-прежнему обложен и парализован, а зубы, казалось, не помещаются во рту. Зато ее слова меня обрадовали: выходит, я все-таки уходила из дома. А ведь на страшную долю секунды мне показалось, что это был всего лишь сон.
Чез приподнял мне веко:
– Джуд, ты уверена, что с нею все в порядке?
– С ней все нормально.
– Она зеленая. Ее сейчас вырвет.
– Хватит ерунду болтать. Если не угомонишься, отправлю тебя домой.
– А знаешь, я и правда пойду. Выгуляю собак, чего-нибудь поделаю. Вечером увидимся?
– Посмотрим. В зависимости от того, как здесь дела пойдут. Давай я тебя до калитки провожу.
Они ушли, оставив дверь открытой. Пока они прощались – а длилось их прощание довольно долго, – я снова выпорхнула из дома.
И сразу очутилась в моей уютной берлоге за живой изгородью. От звука приближающихся голосов я окончательно проснулась. Один из них принадлежал Банч Кормелл. Она шагала по тропинке с туго спеленатым младенцем – тем самым, которого я недавно вытащила из ее утробы. Банч выглядела намного лучше, чем в нашу предыдущую встречу; в сопровождении всего семейства она шагала бодро, наверное в Маркет-Харборо или в соседнюю деревню. За ними семенила собака, и я уже было всполошилась, но она, принюхавшись, почему-то решила меня не выдавать. Супруги обсуждали денежные проблемы, а дети не могли поделить тянучки. В итоге разразилась буча, и самый младший – Малькольм – надулся и отстал.
Я наблюдала, как они проходят мимо, так близко, что мне ничего не стоило коснуться их рукой. Но я сидела тихо, как мышь, стараясь не выдать своего присутствия. Оно бы так и осталось незамеченным, если бы не насупившийся Малькольм. В руках он нес громадную палку, которую, видно с досады, решил швырнуть в живую изгородь. Палка упала на куст неподалеку от меня. Чтобы достать ее, малыш перешагнул через канавку, и тут наши глаза встретились.