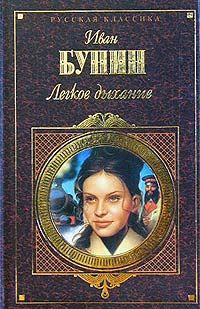сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом – и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и по-весеннему дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками. Кроме ребятишек и стариков, все были в поле – даже все Орелки, Буянки и Шарики.
Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот, всеми обстоятельствами деревенской жизни, вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома.
– Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что, выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки), ну, Кастрюк, – говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем как его баба зашпиливала веретье на возу с картошками, – не тужи тут, поглядывай оба́пол дому да за Дашкой-то… Ка́бы ее телушка не забрухала…
Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.
– Кому Кастрюк – тебе дяденька, – говорил он с рассеянной улыбкой.
Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:
– Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать-то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип-то гнуть.
– Да уж чего лучше, – отвечал дед машинально.
Когда сын уехал, он сходил за чем-то в пуньку, потом передвинул в тень водовозку – все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закроме, то там и сям тюкал топором… В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:
– Долго ли пролежал, – глядь, уж везде беспорядок. А умри – и все прахом пойдет.
Иногда старался подбодрить себя. «Небось!» – говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал: «Эх, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Был конь, да уездился…» Но чаще опускал голову.
Закипели в колодезях воды. Заболело во молодце сердце, —
напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником, молодым и выносливым… Гладя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что в такой-то год, в эту пору он сеял, и с кем выходили в поле, и какая была у него тогда кобыла…
Внучка шепотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно не езженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.
Вдруг Дашка встрепенулась.
– Дедушка, глянь-ка! – заговорила она и быстро и нараспев. – Глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!
Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:
– Дедушка! Рысью, рысью!
Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.
– Должно, к завтрему приедет, – сказала она в раздумье.
Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали.
Жаворонки пели в теплом воздухе… Весело и важно кагакали грачи… Цвели цветы в траве около линии… Спутанный меринок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро.
– Здоро́во, сударушка, – закричал он, завидев идущего по рельсам сторожа-солдата. – Здравия желаем, ваше благородие! – прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.
– Здравствуй, – сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.
– Иди, сударушка, покурим, – продолжал дед, – погуторь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.
– Я путь должо́н обревизовать к прибытию второго номера, – ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше.
Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку:
– А то погодил бы!
Солдат не обернулся.
По дороге назад дед поболтал с пастухами и полюбовался на стадо.
– Дюжи хороши ноне корма будут! – сказал он.
– Хороши, – ответил подпасок и вдруг, с криком: «Азад, смёртные!» – бросился за свиньями.
Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно, на разные лады, тонкими голосками перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так торопливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия…
II
Поспешно подходя к своей избе, он увидал, что по выгону, прямо к ней, едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу: вороной барский жеребец весь заиграл и заплясал, выгибая шею.
Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин въехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога.
– Здравствуй, Кастрюк, – сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы. – Жарко! – прибавил он и протянул папироску и деду.
– Непривычны, Миколай Петрович, – захихикал тот. – Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького – это мы, старики, любим!
– А я было к вам по дельцу, – начал Николай Петрович, отдуваясь. – Ездил повещать на Мажаровку… надевай шапку-то, Семен!.. Да вот, кстати, и к вам. Девок своих не пошлете ли ко мне?
– Аль еще не сажали? – спросил дед участливо.
– Запоздали нынче… не я один.
– Запоздали, Миколай Петрович, запоздали…
– Я… – продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «Балуй», что дед со всех ног бросился держать жеребца. – Немножко-то посадил, – опять начал барин, – а пора и совсем управиться.