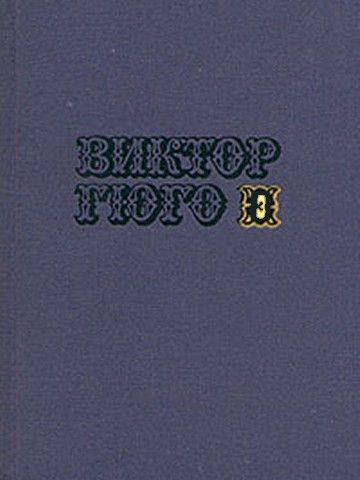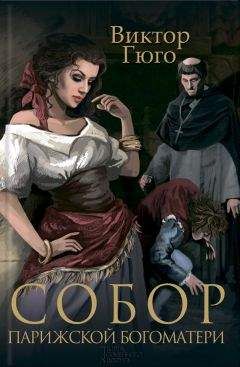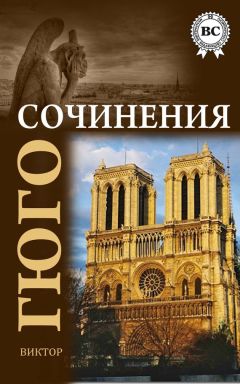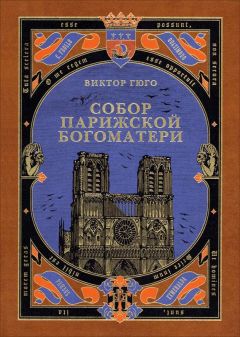— воскликнула Лиенарда. — Какая она дурочка! Так вы знакомы с Юпитером!
— С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.
— Какая у него изумительная борода! — сказала Лиенарда.
— А то, что они сейчас будут представлять, красиво? — застенчиво спросила Жискета.
— Великолепно, сударыня, — без малейшей запинки ответил незнакомец.
— Что же это будет? — спросила Лиенарда.
— Праведный суд Пречистой девы Марии — моралитэ, сударыня.
— Ах вот что? — сказала Лиенарда.
Последовало короткое молчание. Неизвестный прервал его:
— Это совершенно новая моралитэ, ее еще ни разу не представляли.
— Значит, это не та, которую играли два года тому назад, в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали...
— Сирен, — подсказала Лиенарда.
— Совершенно обнаженных, — добавил молодой человек.
Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:
— То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралитэ, написанную в честь принцессы Фландрской.
— А будут петь пасторали? — спросила Жискета.
— Фи! — сказал незнакомец. — В моралитэ? Не нужно смешивать разные жанры. Будь это шутливая пьеса, тогда сколько угодно!
— Жаль, — проговорила Жискета. — А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, сражались между собой и принимали всякие позы, когда пели пасторали и мотеты.
— Что годится для папского посла, то не годится для принцессы, — сухо заметил незнакомец.
— А около них, — продолжала Лиенарда, — было устроено состязание на духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.
— А чтоб гуляющие могли освежиться, — подхватила Жискета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил кто только хотел.
— А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Пресвятой Троицы, — продолжала Лиенарда, — показывали пантомиму Страсти господни.
— Отлично помню! — воскликнула Жискета. — Господь бог на кресте, а справа и слева разбойники.
Тут болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:
— А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.
— А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?
— А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали дьепскую крепость!
— Помнишь, Жискета: едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки?
— У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!
— И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!
— А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двух тысяч всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда.
— Сегодня будет еще лучше! — перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.
— Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? — спросила Жискета.
— Ручаюсь, — сказал он и слегка напыщенным тоном добавил: — Я автор этой мистерии, сударыни!
— В самом деле? — воскликнули изумленные девушки.
— В самом деле, — приосанившись, ответил поэт. — То есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Меня зовут Пьер Гренгуар.
Едва ли сам автор «Сида» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».
Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой моралитэ столь неожиданно разоблачил себя, вызвав простодушное восхищение Жискеты и Лиенарды, прошло немало времени. Любопытно, что вся эта возбужденная толпа теперь ожидала начала представления, благодушно положившись на слово комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и доныне каждый день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления — это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.
Однако школяр Жеан не дремал.
— Эй! — закричал он, нарушив спокойствие, сменившее сумятицу ожидания. — Юпитер! Госпожа богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сначала!
Этой угрозы было достаточно.
Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов, ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.
Воцарилось благоговейное молчание и, вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре действующих лица начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы; одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, второго — из шелка, третьего — из шерсти, четвертого — из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не поняли бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я — дворянство», на подоле шелкового: «Я — духовенство», на подоле шерстяного: «Я — купечество», на подоле льняного: «Я — крестьянство». Внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола — по более короткому платью и по островерхим шапочкам, и две женского пола — по длинным платьям и капюшонам на голове.
Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не уловил бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым дельфином [12], которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и проч., Крестьянство, Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сентенций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.
Все это было поистине великолепно!
Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры наперерыв изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут назад не мог