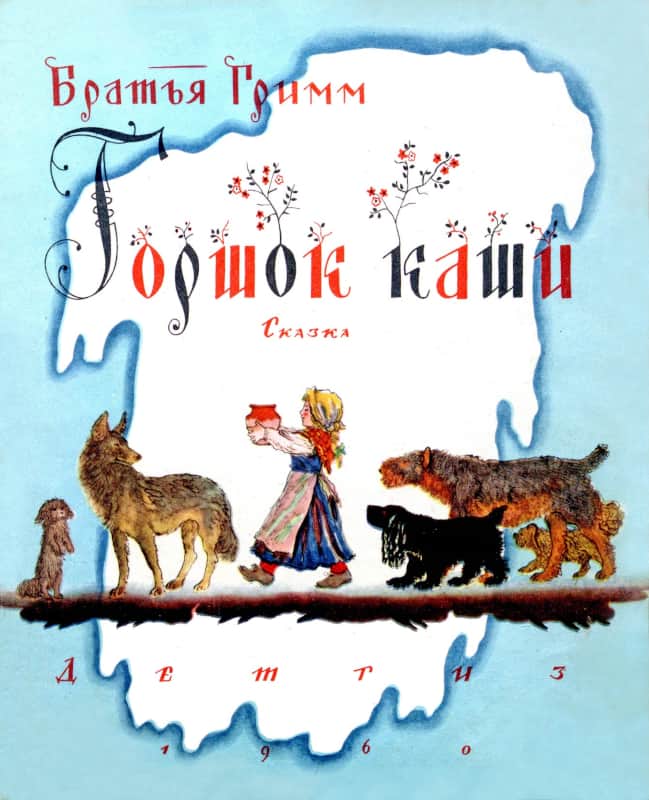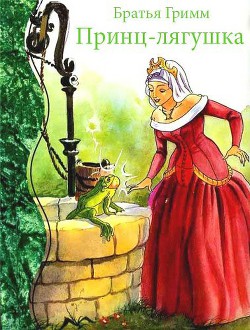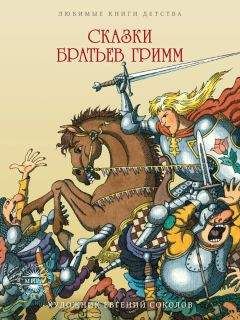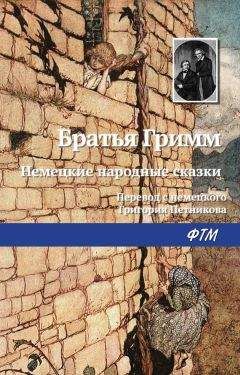дерево, снес ее оттуда, посадил к себе на лошадь и привез домой.
Свадьбу отпраздновали великолепно и весело: но невеста короля не говорила и не смеялась.
Когда они уже года два прожили между собою в полном согласии, мачеха короля, женщина злая, стала на молодую королеву нашептывать и клеветать королю: «Вывез ты из леса простую нищую, и кто ее знает, какими она безбожными делами занимается втайне от нас! Если она точно немая и не может говорить, так ведь она, по крайней мере, могла бы смеяться; ну, а уж кто не смеется, у того, конечно, совесть нечиста!» Король долго не хотел верить этим наговорам, однако же старуха так настаивала на своем и обвиняла свою невестку в стольких злодеяниях, что король наконец дал себя уговорить и приговорил жену к смертной казни.
Во дворе королевского замка был разведен большой костер, на котором должны были ее сжечь: и король стоял у верхнего окошечка замка и смотрел сквозь слезы на все эти приготовления, потому что все же очень любил свою жену.
Когда она уже была привязана к столбу на костре и пламя костра длинными красными языками стало лизать край ее одежды, истек последний миг заветных семи лет.
Тогда в воздухе послышался свист крыльев, и двенадцать воронов явились над костром и опустились наземь: и чуть земли коснулись, обратились в ее братьев, которые ей обязаны были своим спасением. Они разбросали костер, погасили пламя, отвязали сестру от столба и стали ласкать и целовать ее.
Тут уж, когда она могла открыть уста и говорить, она рассказала королю, почему была нема и никогда не смеялась.
Король с радостью узнал о том, что она невинна, и они все вместе жили в согласии до самой смерти.
А злая мачеха была отдана под суд, и суд присудил ее посадить в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и она погибла злою смертью.
«Двенадцать братьев. Девочка в заколдованном лесу»
Художник – Герман Фогель. 1894 г.
Жили-были на белом свете петушок с курочкой. Вот и сказал петушок курочке: «Теперь самое время орехам зреть; пойдем на гору и насладимся ими досыта, пока их белка все к себе не перетаскала». – «Ладно, – отвечала курочка, – потешим утробушку».
И пошли они на гору, и так как день был светлый, то они и оставались там до самого вечера.
И, право, уж не знаю – наелись ли они чересчур плотно или высокомерие их обуяло, но только не захотелось им возвращаться домой пешком, и петушку пришлось смастерить небольшую повозку из ореховой скорлупы.
Когда повозка была готова, курочка сейчас в нее уселась и говорит петушку: «А ну-ка, впрягайся да вези меня». – «Еще что выдумала, – сказал петух, – да я лучше пешком домой пойду, чем впрягаться стану. Нет, между нами такого уговора не было. Кучером еще, пожалуй, готов быть и на козлах сидеть, а чтобы на себе тащить – не согласен!»
Между тем, пока они спорили, затараторила на них утка: «Ах вы, воришки, да кто вам позволил в мой орешник на горе ходить? Ужо вот поплатитесь за это!» – и с раскрытым клювом налетела на петушка. Однако же петушок, не будь промах, клюнул утку в брюхо, а затем уж так храбро напал на нее со своими шпорами, что она стала просить пощады и охотно обязалась в виде наказания тащить на себе повозку.
Тут уж петушок взобрался на козлы кучером и давай погонять: «Утка, валяй во все лопатки!»
Проехав часть пути, повстречали они еще двоих путников: булавку и иголку.
Те крикнули: «Стой, стой!» – и стали говорить, что вот, мол, сейчас стемнеет, тогда им и шагу нельзя ступить далее, да и грязно, мол, очень по дороге – так нельзя ли им тоже в повозке примоститься, а то они в портняжной гостинице у ворот застоялись и около пива запоздались.
Петушок, видя, что они ребята тощие, места много не займут, взял их обеих в повозку, только с тем уговором, чтобы они ни ему, ни его курочке на ноги не наступали.
Поздно вечером приехали они к гостинице, и так как им не хотелось дальше ехать ночью, да и утка еле на ногах держалась и то на один бок, то на другой валилась, то и завернули в гостиницу.
Хозяин гостиницы сначала стал было ломаться да говорить, что у него, дескать, в доме места нет, да и то подумал, что приезжие – народ не важный; потом, однако же, сдался на их сладкие речи, на обещания, что вот, мол, ему достанется яичко, которое курочка дорогой снесла, да, кроме того, и утку он тоже может удержать при себе, а та, мол, каждый день по яичку кладет…
Сдался – и впустил их ночевать.
Они, конечно, велели себе подать ужин и этому ужину оказали надлежащую честь.
Ранешенько утром, когда еще только чуть брезжилось и все еще спали, петушок разбудил курочку, достал яичко, проклевал его, и они вместе им позавтракали, а яичные половинки бросили на очаг.
Потом пошли к иголке, которая еще спала, взяли ее за ушко и загнали в подушку хозяйского кресла; наконец добрались и до булавки, взяли ее да и прикололи к полотенцу хозяина, а сами, как ни в чем не бывало, давай бог ноги!
Утка спала под открытым небом во дворе, услышала, как они улизнули, и тоже приободрилась; разнюхала какой-то ручеек и поплыла по течению его – и откуда прыть взялась! Не то что повозку тащить!
Только уж часа два спустя протер себе хозяин глаза на своей пуховой перине, умылся и только хотел было утереться полотенцем, как булавка царапнула его по лицу и провела красный рубец от уха до уха. Пошел он в кухню и хотел было трубочку закурить; но чуть только подошел к очагу – обе яичные скорлупы как прыгнут ему в глаза… «Да что же это сегодня все моей голове достается!» – сказал он про себя и с досадой опустился на дедовское кресло, но тотчас же вскочил с него и вскрикнул: «Ай, ай!» – потому что иголка его очень больно (и не в голову) уколола.
Тут уж он совсем обозлился и стал во всех этих проделках подозревать этих приезжих, которые накануне прибыли так поздно: пошел, посмотрел – а их и след простыл.
Тут он дал себе