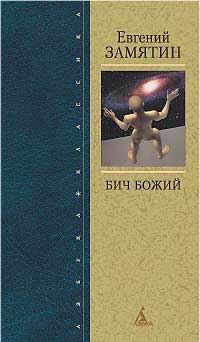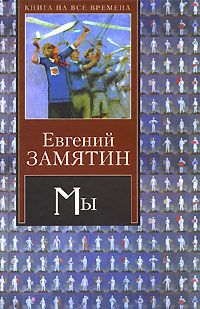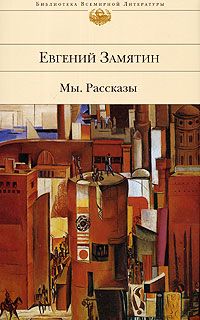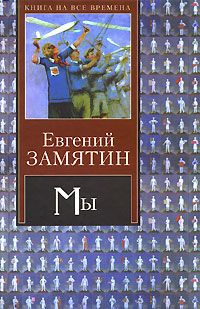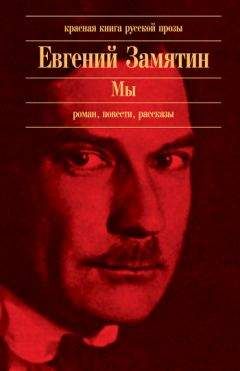Кортома сияет добродушно-медно, в чану – фырк, визг.
Приказчик, Иван Скитский, выцарапался. Льют ручьи. Облепленный, щуплый – щерится снизу на Марея беззубыми деснами – и вот сейчас кинется…
– Звездани его, Ванька! Ну-ка?
Иван Скитский поднял кулак, поглядел на саженные Мареевы плечи – опустил кулак.
– Погоди-и! Ла-адно! Удружу, дай-ка! – нырнул в свою норь – в плечи, нырнул между ног в толпу.
Представление кончено. Нехотя расходятся по местам: пластать треску, набивать корзины тресковой печенью, на спине носить на салогрейню к Кортоме.
Кортома перед уходом сунул двугривенный мокрому, хныкающему Степке – и на своем, самоварном, языке мыслит:
«Доволен, поди, мальчонка: двугривенные-то не каждый день…»
Неизвестно когда – а только проглотил кит пророка Иону. А с неба голос говорит:
– Не смей пророком питаться! Выплюнь обратно!
И опять добычу искать неохота, а ослушаться боязно. Три дня годил кит – на четвертый день выплюнул Иону. И в награду за послушание определено было киту жить бессмертно.
И живет. Страшный, громадный стал, вся спина от старости заросла мохом, кустищами. И никто не трогал: всем известно – тот самый это кит Ионыч, какому определено жить бессмертно.
А только нашелся такой отчаянный русский китобой – пустил в спину гарпун. Как обернется кит – ам! – и проглотил шкуну со всей командой. И по сю пору живет команда во чреве китовом и грех отмаливает. Кто если замолит грех – того кит выкинет, и пойдет выкинутый, где-нибудь в лесах скрытником поселится: мудрый – из чрева китова. Молится, радуется летнему незаходящему солнцу, радуется зимней ночи незаходящей, радуется грешным и праведным, радуется смерти – когда смерть придет…
За становищем, где дороги расходятся вправо и влево, на самом разулочье – развалюшка-часовня; возле часовни – землянка, в землянке – старец Иван Романыч; может – сто годов ему, может – двести.
Выполз из землянки, стоит – козырьком руку к глазам, капельный, ряска зелененькая, в руках – шапка-мурмолка, на голове – пушок белый: дунь – облетит, как одуванчик.
Заря. На кончиках зеленых сосновых игол – росины, в росинах розовые и зеленые огоньки. Слава Богу: заря! Солнце все выше, небо синее. На синем – две желтых бабочки-крушинницы кружатся одна около другой, склеились, полетели – одно.
Из-под руки глядит старец Иван Романыч и улыбается: слава Богу…
Еще мальчишкой Марей был вроде Степки, еще Марюшкой его кликали. И вышло с ним происшествие.
Сидел Марюшка над Тунежмой, ловил рыбу на поддев. Шумела, бежала Тунежма по острым камням, баюкала, старинки сказывала. И заслушался ли, засмотрелся ли – а только ухнул в воду мальчишка. Пришла мать звать обедать, а от Марюшки только и осталось: уда над водой в камушках заткнута.
– Ой, батюшки, ой, утоп Марюшка, в омут утянуло!
Прибежали, вытащили: синий. Ну, все-таки откачали кой-как, отживел. А только балухманный какой-то стал, все один, и глядит – не глядит, не на тебя – мимо, и кто его знает, что видит.
Повела мать-покойница Марея к старцу Ивану Романычу.
– Батюшка, Иван Романыч, что мне с ним делать? Приговори, присоветуй. Вовсе некулёмый малый растет…
– Ну и слава Богу…
Стоит Иван Романыч капельный, в руках шапка-мурмолка, приложил руку к глазам.
– Был, мать, твой младенец на том свете, а вот откачали – и позабыл, вспомнить бы – а не может. Ничего-о, вспомнит! Иди, мать, с Богом…
И по сю пору любимое Мареево место – где мальчишкой топ: под камнем, над белокипенной Тунежмой.
Уж, должно быть, давно дергала рыба, уда гнулась дугой. Марей не слышал, все о чем-то о своем. И давно с того берега глядела – просунулась между густо-зеленых можжевельных кустов чья-то рыжая голова, высунулась по грудь, нарочно зашуршала листьем: беловолосый младень-богатырь по-прежнему глядит мимо, не слышит, все о своем. Схватила камень, швырнула, плеснул камень воду у самых Мареевых ног.
Марей вздрогнул, выпустил уду из рук – схватило, завертело – уж далеко в белой пене тоненькой хворостинкой. И далеко между сосен на том берегу мелькает рыжее – как на сосновых стволах от солнца – пятно.
Пропало. Кипит, шепчет Тунежма, унесла уду: никогда не вернется.
На руке перчатка. А вот – сняли, и лежит перчатка на конторке, будто и та же, а не та: не живая, вынуто нутро. И такая за конторкой Кортомиха: нутро вынуто – и запали навсегда щеки, запала грудь. А шляпка – розовая с цветами, и еще больнее глядеть от розовой шляпки. И между двух запавших по углам морщинок – веселая улыбка: еще больней от улыбки.
Кортомиха выходила в лавку нарядная, в розовой шляпе, в перчатках, в улыбке. Такой был ей приказ мужнин:
– Пусть все видят: ты, мол, не кто-нибудь.
Но нарядная Кортомиха редко показывалась: больше наверху, на своем рундучке, у дверей конторы, и только уж разве особенное что.
Такое особенное вышло нынче: лопари пришли. Уж, пожалуй, года два не были, а нынче пришли. И первым делом к Кортоме в лавку: менять пушнину на соль, на ситец.
Народу – со всего становища, и в лавке, и перед лавкой: ярмарка, говор, торг. Тутошние девки из угла глазели – тяжелые, медленные. Встанет на цыпочки какая, покажет белобрысую голову – что нерпа из моря выстала. А лопские – чернявые, верткие, юркие – как рыбная молодь на мелководье под солнцем, только зайчиком мелькает рыжая голова среди черных.
– Эй ты, красотка, рыжая: а ну, поближе? не бойсь, не съем, – скулы у Кортомы медно сияют, раздвигаются шире.
– Не подавись, гляди!
Перед прилавком, закинула рыжую голову, прямая, как из земли зеленая былка, и не щербатый пол под ногами – земля, и мох, и белые корни – босые ноги – крепко в земле.
У Кортомы в руках кусок травянисто-зеленого ситцу. Ловкой рукой – в складочки, оборочки – и приложил рыжей пониже шеи: рыжее – зеленое – эх!
Расправлял складочки на груди, поглаживал, сквозь ситец зацепил: как молоденькая еловая шишечка, как неспелая, еще чуть розовая морошка.
На прилавке железный аршин. Сверкнула рыжая – аршином хлясь вверх по руке, по кости самой.
И в ту же секунду Кортомиха, не спускавшая глаз, мелькнула розовой шляпкой – и тут: загородила запалыми, пустыми руками, и собой, и шляпкой, схватила мужнину руку.
– Голубчик мой, да что же это… мерзавка этакая! Больно? А?
Нет, подумать: его, единственного в мире, Кортому! Поглаживала руку.
В лавке хихикали. Кортома стряхнул с себя Кортомиху – и она отвалилась на прилавок – снятая с руки, запалая, пустая