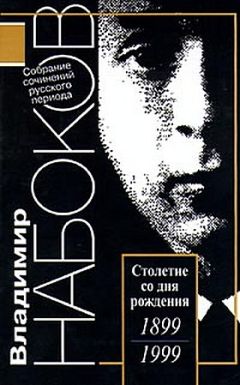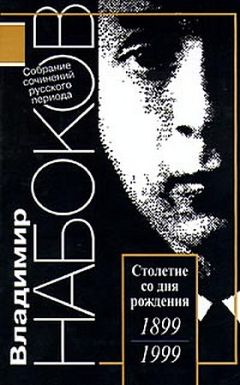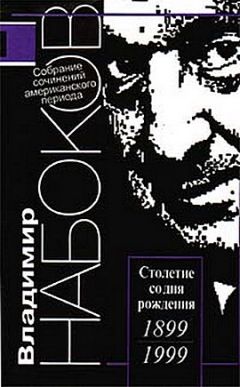бытом крестьян: была она в своем периоде рахметовщины, – спала на соломе, питалась молоком да кашей… И возвратившись к первоначальному положению, мы опять повторим: в стократ завиднее мгновенная судьба Перовской, чем угасание славы бойца! Ибо по мере того как, переходя из рук в руки, истрепывались книжки «Современника» с романом, чары Чернышевского слабели; и уважение к нему, давно ставшее задушевной условностью (которая, вынутая из-за души, оказывается мертвой), уже не могло встрепенуться при кончине его в 89-м году. Похороны прошли тихо. Откликов в газетах было немного. На панихиде по нем в Петербурге приведенные для парада друзьями покойного несколько рабочих в партикулярном платье были приняты студентами за сыщиков, – одному даже пустили «гороховое пальто»; что восстановило некое равновесие: не отцы ли этих рабочих ругали коленопреклоненного Чернышевского через забор?
На другой день после той шутовской казни, в сумерки, «с кандалами на ногах и думой в голове», Чернышевский навсегда покинул Петербург. Он ехал в тарантасе, и так как «читать по дороге книжки» разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал. 23-го июля его привезли, наконец, на рудники Нерчинского горного округа, в Кадаю: пятнадцать верст от Китая, семь тысяч – от Петербурга. Работать ему приходилось мало, жил он в плохо проконопаченном домишке, страдал от ревматизма. Прошло два года. Вдруг случилось чудо: Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь.
Когда он сидел в крепости, она, говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помешалась ли она. Накануне шельмования прискакала в Петербург… 20-го утром уже ускакала. Мы никогда бы не поверили, что она способна на поездку в Кадаю, если бы не знали этой ее способности легко и лихорадочно передвигаться. Как он ее ждал! Выехав в начале лета 66-го года с семилетним Мишей и доктором Павлиновым (мы опять вступаем в область красивых имен), она добралась до Иркутска, где ее задержали на два месяца; там она стояла в гостинице с драгоценно-дурацким названием – быть может, исковерканным биографами, но вернее всего с особенным вниманием подобранным лукавой судьбой: Hôtel de Amour et Kº. Доктора Павлинова не пустили дальше: вместо него поехал жандармский ротмистр Хмелевский (усовершенное издание павловского удальца), пылкий, пьяный и наглый. Приехали 23-го августа. Чтобы отпраздновать встречу супругов, один из ссыльных поляков, бывший повар Кавура, о котором Чернышевский некогда так много и так зло писал, напек тех печений, которыми объедался покойный барин. Но свидание не удалось: удивительно, как все то горькое и героическое, что жизнь изготовляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса. Хмелевский, виясь, не отступал от Ольги Сократовны, в цыганских глазах которой скользило что-то загнанное, но и манящее, – вопреки ее воле, быть может. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу, но тот решительно отказался. Словом, от постоянного присутствия бесстыдника было так тяжело (а какие мы строили планы!), что Чернышевский сам уговаривал жену пуститься в обратный путь, и 27-го августа она это и сделала, пробыв таким образом, после трехмесячного странствия, всего четыре дня – четыре дня, читатель! – у мужа, которого теперь покидала на семнадцать с лишним лет. Некрасов посвятил ей «Крестьянских детей». Жаль, что он ей не посвятил своих «Русских женщин».
В последних числах сентября Чернышевского перевели на Александровский завод, в тридцати верстах от Кадаи. Зиму он там провел в тюрьме, с каракозовцами и мятежными поляками. Темница была снабжена монгольской особенностью – «палями»: столбами, тесно вкопанными встоячь вокруг тюрьмы; «палисад без сада», острил один из ссыльных, бывший офицер Красовский. В июне следующего года, по окончании срока испытуемости, Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дьячка, необыкновенно с лица на него похожего: полуслепые серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы… Всегда пьяненький, всегда вздыхающий, он сокрушенно отвечал на расспросы любопытных: «Все пишет, пишет сердечный!» Но Чернышевский прожил там не больше двух месяцев. Его имя всуе упоминалось на политических судах. Блаженненький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать и посадить в клетку «птицу из царской крови, чтобы выменять Чернышевского». От графа Шувалова была иркутскому генерал-губернатору депеша: «Цель эмиграции освободить Чернышевского, прошу принять всевозможные меры относительно его». Между тем Красовский, выпущенный вместе с ним, бежал (и погиб в тайге, ограбленный), так что были все причины водворить опасного ссыльного опять в тюрьму и на месяц лишить права переписки.
Невыносимо страдая от сквозняков, он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. Передвигался, как лист, гонимый ветром, нервной, пошатывающейся походкой, и то тут, то там слышался его визгливый голосок. Усугубилась его манера логических рассуждений – «в духе тезки его тестя», как вычурно выражается Страннолюбский. Жил он в «конторе»: просторной комнате, разделенной перегородкой; в большей части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста; там, как на сцене (или вот как в зоологических садах выставляют грустного хищника среди скал его родины), стояли кровать и небольшой стол, что было, по существу, обстановкой всей его жизни. Он вставал за полдень, целый день пил чай да полеживал, все время читая, а по-настоящему садился писать в полночь, так как днем непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, его терзали несмазанной музыкой: по профессии они были колесники. Другим же ссыльным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть, со многими «научными» отступлениями, смотрит-то он в пустую тетрадь. Символ ужасный!
Тогда-то он написал и новый роман. Еще полный успеха «Что делать?», он многого ждал от него – ждал главным образом денег, которые, печатаясь за границей, роман должен был так или иначе принести его семье. «Пролог» весьма автобиографичен. Уже однажды упомянув о нем, мы говорили о своеобразной попытке реабилитации Ольги Сократовны; такая же, по мнению Страннолюбского, скрыта в нем попытка реабилитации самой личности автора, ибо, с одной стороны, подчеркивая влияние Волгина, доходившее до того, что «сановники заискивали перед ним через его жену» (полагая, что у него «связи с Лондоном», т. е. с Герценом, которого смертельно боялись новоиспеченные либералы), автор, с другой стороны, упорно настаивает на мнительности, робости, бездейственности Волгина: «ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать». Получается впечатление, что упрямый Чернышевский как бы желает иметь последнее слово в споре, хорошенько закрепив то, что повторял своим судьям: меня должно рассматривать на основании моих поступков, а поступков не было и не могло быть.
О «легких» сценах в «Прологе» лучше умолчим.