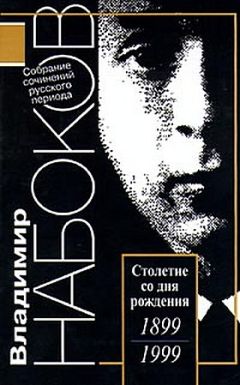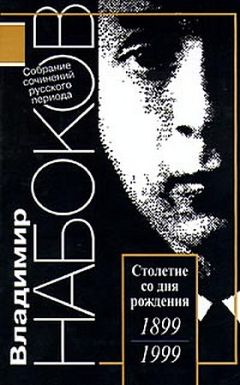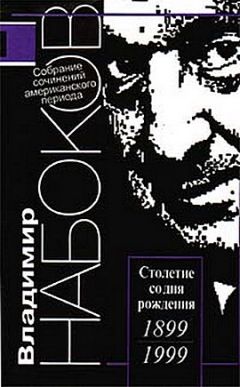последних доносика, прошипевших, как мокрый фейерверк. Знакомство он водил с местными армянами, – мелочными торговцами. Люди образованные удивлялись тому, что он как-то не очень интересуется общественной жизнью. «Да чего вы хотите, – отвечал он невесело, – что могу я в этом понять, – ведь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании…»
Гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими, и с «птичьим гнездом» чуть пониже макушки, – вот она опять с нами (привезла из Саратова конфет, котят); на длинных губах та же насмешливая полуулыбка, еще резче страдальческая линия бровей, а рукава теперь шьются так, что торчат выше плеч. Ей уже за пятьдесят (1833–1918), но характер все тот же, болезненно-озорной; ее истеричность при случае доходит до судорог.
В течение этих последних шести лет жизни бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович с постоянством машины переводит для издателя Солдатенкова том за томом «Всеобщей истории Георга Вебера», – причем, движимый давней, неудержимой потребностью высказаться, постепенно пытается, промеж Вебера, дать выбраться и собственным мыслям. Перевод свой он подписывает: «Андреев», и в рецензии на первый том («Наблюдатель», февраль 1884 г.) критик замечает, что это «своего рода псевдоним, потому что на Руси Андреевых столько же, как Ивановых и Петровых»; за этим следуют колкие упреки в тяжеловатости слога и маленький выговор: «Господину Андрееву в своем предисловии незачем было распространяться о достоинствах и недостатках Вебера, давно знакомого русскому читателю. Уже в пятидесятых годах вышел его учебник и одновременно три тома “Курса всеобщей истории” в переводе Е. и В. Корша… Ему бы не следовало игнорировать труды своих предшественников».
Этот Е. Корш, любитель архирусских терминов взамен принятых немецкими философами («затреба», «срочная затычка», «мань» – последнюю, впрочем, он сам выпустил в публику под усиленным караулом кавычек), был теперь восьмидесятилетним старцем, сотрудником Солдатенкова, и в этом качестве корректировал «астраханского переводчика», внося исправления, приводившие в бешенство Чернышевского, который и принялся в письмах к издателю «ломать» Евгения Федоровича по старой своей системе, сначала яростно требуя, чтобы корректура была передана другому, «лучше понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я», а затем, когда своего добился, употребляя свой знаменитый прием «двойной затычки»: «Разве в самом деле интересуюсь я подобными пустяками? Впрочем, если Корш хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок, они действительно нелепы». С не менее мучительным наслаждением он ломал и Захарьина, по доброте душевной говорившего с Солдатенковым в том смысле, чтоб платить Чернышевскому помесячно (200 рублей) ввиду расточительности Ольги Сократовны. «Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстроен пьянством», – писал Чернышевский и, пуская в ход весь аппарат своей поржавелой, скрипучей, но все такой же извилистой логики, сначала мотивировал свою досаду тем, что его считают вором, желавшим наживать капитал, а затем объяснял, что гнев его был, собственно, напоказ, ради Ольги Сократовны: «Благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к Вам, и я не уступил ей, когда она просила меня смягчить выражения, конвульсий не было». Тут-то (в конце 88-го года) и подоспела еще одна небольшая рецензия – уже на десятый том Вебера. Страшное состояние его души, уязвленное самолюбие, старческую взбалмошность и последние, безнадежные попытки перекричать тишину (что гораздо труднее, чем даже попытка Лира перекричать бурю), все это надобно помнить, когда читаешь сквозь его очки рецензию на внутренней стороне бледно-земляничной обложки «Вестника Европы»: «…К сожалению, из предисловия оказывается, что русский переводчик только в первых шести томах оставался верным своим простым обязанностям переводчика, но уже с шестого тома он сам возложил на себя новую обязанность… “очищать” Вебера. Едва ли можно быть признательным ему за подобный перевод с “переодеванием” автора, и притом столь авторитетного, как Вебер».
«Казалось бы, – замечает тут Страннолюбский (несколько путая метафоры), – что этим небрежным пинком судьба достойно завершила цепь возмездий, которую она ковала ему». Но это не так. Нам остается на рассмотр еще одна самая страшная, и самая совершенная, и самая последняя казнь.
Из всех безумцев, рвавших в клочья жизнь Чернышевского, худшим был его сын; конечно – не младший, Михаил, который жизнь прожил смирную, с любовью занимаясь тарифными вопросами (служил по железнодорожному делу): он-то вывелся из положительной отцовской цифры и сыном был добрым, – ибо в то время, как его блудный брат (получается нравоучительная картинка) выпускал (1896–98 гг.) свои «Рассказы-фантазии» и сборник никчемных стихов, он набожно начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича, которое почти довел до конца, когда в 1924 году, окруженный всеобщим уважением, умер – лет через десять после того, как Александр скоропостижно скончался в грешном Риме, в комнатке с каменным полом, объясняясь в нечеловеческой любви к итальянскому искусству и крича в пылу дикого вдохновения, что, если бы люди его послушали, жизнь пошла бы иначе, иначе! Сотворенный словно из всего того, чего отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам, – зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже – один из первых в России – оценил французских «проклятых поэтов». Отец, прозябая в Сибири, не мог следить за развитием сына (воспитывавшегося у Пыпиных), а то, что узнавал, толковал по-своему, тем более что от него скрывали душевную болезнь Саши. Понемногу, однако, чистота этой математики стала Чернышевского раздражать, – и можно легко себе представить с какими чувствами юноша читал длинные отцовские письма, начинающиеся с подчеркнуто добродушной шутки, а затем (как разговоры того чеховского героя, который приступал так хорошо, – старый студент, мол, неисправимый идеалист…) завершавшиеся яростной руганью; его бесила эта математическая страсть не только как проявление неполезного: измываясь над всякой новизной, отставший от жизни Чернышевский отводил душу на всех новаторах, чудаках и неудачниках мира.
Добрейший Пыпин, в январе 75 года, посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына-студента, сообщая ему и то, что может быть приятно создателю Рахметова (Саша, дескать, заказал металлический шар в полпуда для гимнастики), и то, что должно быть лестно всякому отцу: со сдержанной нежностью Пыпин, вспоминая свою молодую дружбу с Николаем Гавриловичем (которому был многим обязан), рассказывает о том, что Саша так же неловок, угловат, как отец, так же смеется громогласно с дискантовыми тонами… Вдруг осенью 77-го года Саша поступает в Невский пехотный полк, но, не доехав до действующей армии, заболевает тифом (в его постоянных несчастьях своеобразно сказывается наследие отца, у которого все ломалось, все выпадало из рук). По возвращении в Петербург он поселился один, давал уроки, печатал статьи по