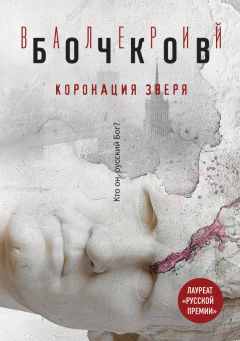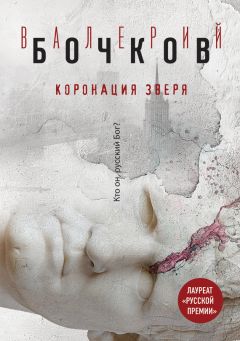Нагнулась, я невольным взглядом застрял в вырезе ее летнего платья на круглой незагорелой груди.
– Меня арестовали в аэропорту, – сказал я мрачно. – Завязали глаза. В наручниках отвезли в какую-то школу. Я видел трупы. Немца… австрийца, с которым я сидел в подвале. Его убили. Меня допрашивали и лишь по чистой случайности мне удалось вырваться. Я хочу понять, что у вас происходит!
Она курила, молча стряхивая пепел в блюдце.
– Почему ты делаешь вид, что ничего не случилось? – заорал я. – Ты можешь хотя бы включить телевизор?!
Я двинул кулаком по столу. Чашка подскочила, расплескав остатки чая, упала на кафельный пол и со звоном разбилась вдребезги. Я неуклюже выбрался, собрал осколки, выкинул в мусор. Мусорное ведро было там же, где и четверть века назад, – под мойкой.
Шурочка затянулась, выпустила дым в сторону. Она молча наблюдала за мной, потом со сдержанной злостью тихо произнесла:
– У меня пропал сын. Наш сын. Твой и мой. Мы должны его найти. Но для этого из нас двоих кто-то один должен вести себя как мужик.
Она с силой воткнула окурок в блюдце, встала и включила телевизор. Сначала появился звук.
– …крупнейший политический и государственный деятель современности, – с мрачным торжеством сказал телевизор. – Вся многогранная деятельность Тихона Егоровича Пилепина, его личная судьба неотделимы от важнейших этапов в развитии страны.
На сальном экране появилась черно-белая фотография президента. Я вспомнил, что телевизор не цветной. Шурочка поставила свою чашку в раковину и вышла из кухни. Голос за кадром продолжал:
– …неизменная преданность делу мира. Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату материальных и духовных богатств, а упрочение мира – вот путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает российскую мирную инициативу, выдвинутую в ООН, всю внешнеполитическую деятельность нашей страны.
Голос за кадром, трагичный и умный баритон, продолжал:
– Мы видим всю сложность международной обстановки, попытки агрессивных кругов Запада подорвать мирное сосуществование, столкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации. Но это не может поколебать нашу решимость отстоять мир. Мы будем делать все, чтобы любители военных авантюр из Атлантического союза не застали нашу родину врасплох. Пусть помнят господа из Пентагона – им не застать нас врасплох, потенциальный агрессор должен знать: наш ответный удар будет сокрушительным.
Я слушал как зачарованный – я совершенно забыл о магии этих заклинаний. Словесная белиберда напоминала мантру: не обладая особым смыслом, гипнотизировало само звучание. Это было похоже на поэзию, на песнь шамана. Удивительно, что не изменился ни пафос, ни словарь: я все ждал, когда будет сказано о руководящей и направляющей роли партии. Форма и содержание были знакомы со школы: тут же вспомнилась тоска муторных комсомольских собраний, «ленинских зачетов», каких-то немыслимых вахт мира. Медленно и величаво поднялся из гроба в белоснежном маршальском кителе дорогой Леонид Ильич.
Шурочка вернулась на кухню. Ни слова не говоря, положила передо мной фото в рамке, семейные офисные работники обычно ставят такие на письменный стол. Я взял фотографию, повернул к свету. На снимке, в полуденном турецком зное с пальмами и синими пляжными зонтами в качестве декораций, фотограф запечатлел веселую Шурочку в цветастой блузке и пацана лет пятнадцати в простой белой футболке. Этим пацаном запросто мог быть я сам – лет тридцать назад: сходство было убийственным.
Я поставил фотографию на стол, долго вглядывался. Потом закрыл лицо ладонями. Шурочка пальцами тронула мое плечо, я замотал головой. Я не плакал. Я просто не знал, не мог понять, что со мной происходит.
Рассудок – это часть сознания, способная логически осмыслить действительность, составляя суждение о явлениях и превращая познание в опыт, путем объединения их в категории. Я был согласен с Кантом теоретически, но на практике – в отдельно взятой московской кухне – что-то не очень складывалось: мозг заклинило, в горле стоял ком; я подумал, что, наверное, именно так людей хватает кондрашка.
– Незлобин, – испуганно позвала Шурочка. – Тебе плохо?
Не поднимая головы, я отрицательно помотал головой.
– Димка. – Она наклонилась ко мне. – Может коньяку?
Не отнимая рук от лица, я кивнул.
Коньяка не оказалось. Я выпил теплой водки, налил еще и снова выпил.
– Ты, что ли, настаиваешь? – сдавленным чужим голосом спросил я – на дне бутылки бледными кольцами скручивалась лимонная кожура.
– Я? – Шурочка заботливо налила мне третью рюмку. – Не-е. Папа еще…
Пухов-старший, подмигнув, помахал мне загорелой рукой с того света. Я кивнул ему и выпил третью. Шурочка по-птичьи осторожно, точно микстуру, отпила из своей рюмки. Химическая реакция наступила на удивление быстро (что бы там ни говорили про русских, водку они делать умеют): мне стало жарко, голову отпустило, я улыбнулся.
Я улыбнулся, погладил Шурочкину руку. Сто грамм разведенного этилового спирта, настоянного на лимонных корках, волшебным образом навели порядок в мироздании.
Широким жестом снял куртку (один рукав застрял) я освободился, резко вывернув его наизнанку. Порвал подкладку, вытащил деньги – пятьдесят новеньких купюр с портретом президента Франклина, туго перетянутые аптекарской резинкой. С почти эротическим удовольствием шмякнул увесистую пачку на кухонный стол. Безусловно, существует магическая связь, подсознательная, на грани патологии, между человеком и этими кусочками цветной бумаги. Не будучи наркотиком, они волшебным образом вызывают состояние эйфории. Эффект значительно усиливается, если тебе удалось провезти их контрабандой через границу.
Шурочка сняла очки. Некоторое время она молча смотрела на меня, пытливо и внимательно, точно стараясь что-то разглядеть в лице. Ее умные глаза серо-голубого цвета пытались сквозь морщины, годы, ссоры и скандалы, сквозь незатянувшиеся шрамы развода, сквозь боль обидных и несправедливых слов добраться до того, что она разглядела тогда, много лет назад, когда нам еще не было и пятнадцати. Не знаю, может, мне это только почудилось, поскольку нечто подобное творилось сейчас со мной.
– Спасибо, – тихо сказала Шурочка. Она взяла деньги, зачем-то понюхала. – Новые совсем.
Встала, поднявшись на цыпочки, сунула пачку между жестяных банок «Соль» и «Мука» на верхней полке. Отошла к окну. Телевизор показывал фотографию Спасской башни с часами, застывшими на семи двадцати. Из хилого динамика, чуть похрипывая на басах, текли «Страсти по Матфею». Тревожная музыкальная фраза повторялась, потом пошла наверх. Иисус нес крест на Голгофу. Вступил хор, в тоскливую мелодию органа вплелись голоса второго хора – первый хор оплакивал Христа, второй вопрошал: «Кто? Куда? За что?»
Шурочка, чуть сутулясь, стояла ко мне спиной. За ней, в заоконном мареве, проступило тусклое солнце. Оно, мученически краснея пунцовым нарывом в серо-коричневой дымке московского неба, закатывалось где-то там, за неразличимым из-за гари университетом, где-то в районе Воробьевых гор.
Кухня вдруг наполнилась рыжим светом, теплым и почти осязаемым. Легионеры распяли Иисуса, подняли на веревках крест, укрепили кольями и булыжниками. К двум хорам присоединился еще один, детский: «О, невинный агнец Божий, Ты на кресте убиенный». Такими голосами, наверное, поют ангелы, когда им грустно.
Шурочка всхлипнула. Не поворачиваясь, зябко обхватила себя за плечи.
Какой же я все-таки идиот! Поистине безнадежный и неисправимый. Стукнувшись коленом, я неуклюже выбрался из-за стола. Она вяло отталкивала меня локтем, пряча лицо. Я прижал ее к себе, она тут же обмякла, по ее телу прошла та самая дрожь, от которой у меня мутился разум еще в школе. Примерно то же самое произошло со мной и сейчас – мозг отключился. Резко, почти грубо, развернув ее, я нашел ее губы. Прижал. Я елозил лицом по соленым щекам, по горячим мокрым губам, целовал ее лоб, брови, подбородок. Она, тихо всхлипнула, уткнулась мне в шею, точно прячась от кого-то. Я механическим жестом гладил и гладил ее по голове.
Москва-река за окном отразила небо, грязное и красное. Тень под мостом казалась черней сажи. Парапет и дома на той стороне сразу потемнели, стали плоскими, как фанерные декорации. Пробка на Устьинском мосту так и не сдвинулась, фиолетовые контуры троллейбусов напоминали караван гигантских кузнечиков, угодивших в западню. На середине моста собралась толпа, люди размахивали какими-то флагами, кто-то сорвал спасательный круг и выкинул вниз. Круг беззвучно шлепнулся в маслянистую воду и медленно поплыл в сторону Лужников. Люди жестикулировали, потом растянули на решетке ограждения длинный транспарант. На белой тряпке угловатыми буквами было написано: «Убей западло!» Я заметил, что несколько человек пытались перекинуть какой-то мешок через поручень. Им это удалось. Мешок полетел вниз. Не долетев до воды метра три, он дернулся и повис. Это был человек. Он неспешно покачивался, как маятник, потом замер. Я, не в силах оторвать от него взгляд, все гладил и гладил Шурочкин затылок.