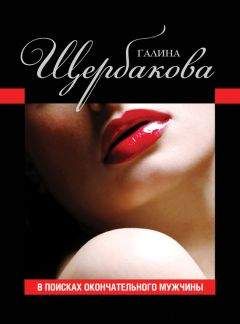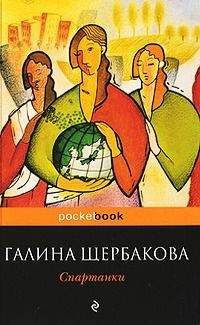Но это я поняла потом, потом…
Тогда же я сидела и ждала у белой простыни погоды. Никому я не была нужна, никому. Дома были повернуты на улицу безоконной стороной. В доме приезжих почему-то на полу сидели мужики и молчали. Иногда они пили водку, заедая ее салом с хлебом. Мне тоже хотелось есть, я покупала в магазине пряники и грызла их с водой. Спала я за простыней, которой выгородили женскую половину.
Скорее всего, мне просто не повезло. Попади я в какое-то другое место, и все было бы иначе. Я же попала в место мрачное, молчаливое и бедное.
То, что я «из центра», никого не интересовало. Думаю, сам факт его существования эти жующие хлеб с салом мужики воспринимали так, как я теперь воспринимаю что-то про Багамские острова. Я почувствовала невероятную отдаленность одной жизни от другой. Ну что им было до того, что тогда где-то запоем читали Ремарка и Хемингуэя? Что меняла в их жизни наша городская суета, будто бы состоящая из забот о них? Сидящих на полу и молча жующих хлеб?
Но если есть такой поселок, то смешно думать, что он единственный в своем роде. Может, их есть даже два. Или восемь. Может, они – такие поселки – часть земли вообще?
Я не понимала. Я ощущала. И боялась.
Может, тогда все сидящие на полу были хемингуэевские старики и надо было их именно так увидеть, с рыбиной, или лесиной, или с чем-нибудь сопротивляемым. Тогда бы я узнала, что они сильные, могучие и пр.
Отлично понимаю, как я выгляжу в их глазу.
Девчонка, брезгливо перешагивающая через ноги, пять раз в день моющая руки под гремящим умывальником и смотрящая в небо. Что ей тут надо? Кто она есть?
Журналистка. А!!! Была б хоть артистка.
Тот, которому я привезла авторучку, меня избегал. Как я потом выяснила, редакция совершила опрометчивый поступок, выгравировав на граните его имя. Его корреспондентский грех был тайный. Заметушечки шли в громадном количестве, но под псевдонимом. В них были изысканные выражения типа «встав на трудовую вахту» и «идя навстречу Великому Октябрю».
Я ходила по безоконной улице и не понимала ничего ни в себе, ни в людях. Почему из всех возможных вариантов проверки жизнью мне был предложен этот – молчаливый, без окон, с твердыми пряниками? Или все было не так? Была обычная, снулая периферийная жизнь?.. Как есть снулая столичная…
Меня сразу погрузили в эту жизнь, чтоб знала. Чтоб ведала.
Использовала я когда-нибудь это знание?
Знания ложились пластами. Забыла, как это называется в химии – непереходимость одного в другое.
Мертвые закаменелые пласты.
Или это только у меня?
Тогда позволю себе вспомнить еще один пласт.
Та командировка кончилась тем, что корреспондент запряг лошадь и отвез меня в конце концов на маленький полустанок. Там стрелочник поднял свою обшарпанную палочку и остановил товарный поезд. Я влезла на паровоз, и меня повезли на ближайшую станцию.
Из таких сюжетов теперь делают многосерийные фильмы. В двенадцати сериях вам покажут и лошадиное копыто, и паровозное колесо, и белозубую улыбку кочегара, и вы узнаете, какие кругом живут замечательные люди, готовые прийти…
Кочегар не улыбался. Он прокричал громко и отчетливо все, что он думал про стрелочника. Стрелочник, видимо, тоже что-то ему сказал, но мне не было слышно. Я крикнула своему возчику «спасибо», но он в этот момент объяснялся со стрелочником.
Я даже не сумела сделать из всего этого устный рассказ. Не могла, и все.
Бухгалтерия вычла из зарплаты просиженные дни. Государство не может брать на свой счет чужую частную неповоротливость. Надо было брать лошадку сразу. Пешком идти. Газете нужны люди действующие, а не снулые.
Тьфу, привязалось слово. Снулые – умирающие на воздухе рыбы.
Поскольку определяющей в нашей жизни является производственная деятельность…
Мне издалека приветственно машет грешный корреспондент. Он бы с удовольствием написал такую фразу.
Таинственное влияние воспоминаний на нашу стилистику.
…Итак, еще один пласт познания жизни.
Родилось соревнование за коммунистический труд. Мне дали в зубы адрес и сказали: вскрой его нравственную суть… Не надо проценты (только чуть-чуть), а препарируй сердце, легкие и печенку. Печенку особенно. В ней скрывается суть движения.
Самолет пролетал над теми степями, где месяц назад я чуть не сошла с ума от белизны снега, от молчания людей и необязательности существования Хемингуэя.
Ледяная безысходная тоска пробила обшивку самолета, разыскала меня в салоне и села мне на колени.
– Ну как? – спросила она. – Ходишь в театры? Спишь с мужем? Спутник не ты запустила? Не ты? Чего ж ты так? А! Писала отклики трудящихся! А у нас все так же… Спокойно, как в гробу… Белым-бело… Ты ничего не поняла… Ничего… Ответь на простой вопрос: зачем эти спутники? Почему они важнее стрелочника, который для тебя остановил поезд?
Никаких ответов не было.
Была тоска непонимания.
С тех пор каждый раз, садясь в самолет, я перестаю понимать законы существующего миропорядка. Законы действуют для меня на тверди. В воздухе же… В воздухе я думаю о том, что могу оказаться одна на белом, обшитым колышками пространстве, в другой реальности. Я буду перешагивать через нее… Она не будет реагировать на меня… Невозможность сосуществования.
Ну почему, почему они не дали мне тогда своего хлеба с салом, не дали водки?
Чушь собачья эта легенда о безграничной щедрости народа. Может и не подать, еще как может не подать!
– Нечего давать! Нечего давать! – кричала моя бабушка побирушкам, а мама движением фокусника закрывала полотенцем еду на столе.
(Сейчас поковыряюсь и насобираю факты доброты и отзывчивости. Сейчас, сейчас…)
…Приземлилась в городе, где жила одна знаменитая бригада, которая объявила всем, всем, всем о том, что живет по законам будущего.
Смех! Они тогда жили будто бы по законам нашего сегодня?
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Так все и было.
Прелесть что за парни.
Мы играли в интервью, как дети. Они сами задавали себе вопросы. Сами отвечали.
Говорили: «Запишите, мы хорошие, спасу нет. Факты? Пожалте».
Блокнот распухал от светлого будущего, воплощенного в мускулистых парнях. Можно было жить спокойно, раз такие парни существовали. Они читали Хемингуэя. Они знали все про все. На такой группе А не то что группу Б можно было воздвигать, а весь алфавит взгромоздить было не страшно.
…Фу! Как я распалилась! Чего, спрашивается? Хорошая была бригада? Хорошая! Работали они как следует? Работали. Носили больным яблоки и мандарины зимой? Носили. Обсуждали все вместе фильм «Летят журавли»? Обсуждали. Оценили движущуюся камеру Урусевского? Оценили. Дарили девушкам цветы? Дарили.
Невозможно было представить, что всего за триста километров от них на грязном полу сидят закаменелые мужики и пьют водку в такой молчаливой сосредоточенности, будто постигают мироздание.
А вдруг постигают?
Но я их вычеркнула из памяти, этих мужиков. Я забыла о холодной тоске, что сидела у меня на коленях в самолете.
Я перепрыгивала через какие-то железки, смотрела, как бежит металл, думала о том, что если в него прыгнуть… Это были холодяще веселые мысли о смерти, в присутствие которой, в сущности, не верилось. Подумаешь, смерть…
Придут парни, завернут рукава, им всандалят в вену иглу, отсосут кровь, и ее хватит на тысячу таких, как я.
Я ничего про них не знаю.
Могла бы узнать, но не хочу.
Хочу думать, что именно они остались, эти парни. Все еще ходят в вечернюю школу и обсуждают камеру Урусевского.
Черномор же в Москве. У него сто двадцать кэгэ чистого веса и давно уже нет шеи. Я его вижу по телевизору. Он выступальщик на разные темы. От него веет тоской и холодом.
Ну и хрен с ним!
Материал же, который я написала, был одним из многих в ряду подобных. Из него вычеркнули мой пассаж об огне («при чем тут это?»). И правильно вычеркнули. И никому не ясную параллель с некоей застывшей и не желающей меняться человеческой природой, которая живет за триста километров. («Это ты о чем, подруга? Что за мелкая философия?») И, конечно, мысль о будто бы отдаваемой крови. («Кому?! И зачем?! Они что – доноры?»)
Но кое-что оставили. Безграничность снегов под крылом самолета. Безграничность возможностей. Про сидевшую у меня на коленях тоску я не писала. Это был мой изъян. Моя тугоухость и кривоглазость, а также хромота и горбатость.
Время же рядилось в красоту.
Люди добрые! Куда это меня занесло? Я уже сто семьдесят лет не занимаюсь журналистикой. Моя дочь иногда любит сказануть:
– Моя мать – из проституток.
Это у нее такой юмор. У нее коллекция страшных четверостиший.
…Дедушка в поле гранату нашел…
…Косточки, косточки, звездочки в ряд…
Все хохочут, и я со всеми. Что-то случилось со всеми нами, если мы смеемся над этим.