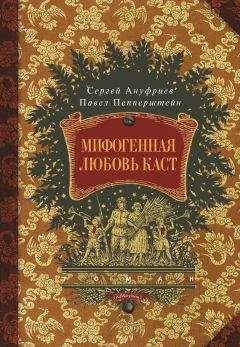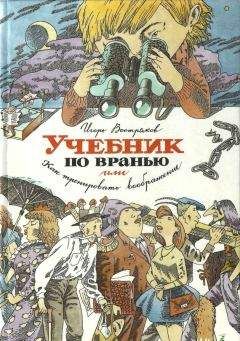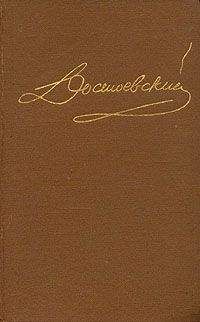Глава 10
Избушка
Дунаев, шатаясь, подошел поближе и уперся в забор, на кольях которого сидели горшки и горько улыбались трещинами. За изгородью ходил петух и сверкал синими глазами. Черная курица ходила неподалеку. Дунаев вдруг прошел сквозь забор. Бревенчатые стены избы ярко блестели при луне, будто смазанные белым клеем.
Дунаев встряхнулся: изба стояла перед ним и была реальностью. Он смущенно потрогал бревенчатую стену, поглядел на крышу. Никакого инея или клея не было видно – обычная крыша, крытая давно каким-то подгнившим тесом, а кое-где заделанная полосками ржавой жести. Сбоку – колодец. Стараясь ступать бесшумно (голос здравого смысла, звучащий иногда вопреки всему с краев сгущающегося бреда, подсказывал, что и здесь могут быть немцы), он подошел к окну и осторожно заглянул внутрь. Сквозь щель между ситцевыми занавесками в мелкий цветочек он увидел обычную комнату, похожую на обиталище лесника. В русской печке теплились угли, на стене висело охотничье ружье, в углу стояла кадка и деревянная скамья. За грубо сколоченным столом на сундуке сидели два человека: старик и старуха. Впрочем, после потусторонней неисчерпаемой старости, отпечатавшейся на лицах Священства, эта естественная человеческая старость показалась Дунаеву только что возникшей, а седые волосы и морщины были как будто пропитаны младенческой упругостью.
Старик, загорелый, сухощавый, в полотняной рубашке, медленно ел похлебку деревянной ложкой. Баба неподвижно сидела напротив, сложив морщинистые руки на животе. Голова ее была повязана белым платком.
Дунаев тихо постучал.
– Кто будет-то? Если русский человек – входи, а не русский – изыди, – тихо-тихо сказал голос старика за дверью, немного погодя.
– Да свой я, парторг Дунаев, партизан разыскиваю, – тихо ответил парторг. – Открывай, дедуля!
Задвигались засовы, и дверь открылась, пропустив Дунаева в темные сени. Запах погреба и пыли смешивался с запахом сена и деревянных досок.
– Проходи, сынок, прямо в комнаты, а тут сапоги сыми, – шепотом сказал дед. От него пахло салом с чесноком и солеными грибами.
– Эх, батя, света нет, посмотрел бы ты, какие у меня сапоги! – усмехнулся Дунаев, ведь он был абсолютно голый. Но он спокойно прошел из сеней в комнату, где стоял деревянный стол и сидела баба. Глаза у бабы были заплаканы. При виде Дунаева она охнула и закрыла лицо руками. Под причитания бабы тот схватил полотенце и завернулся в него. – Не бойсь, баба, я уже одетый, – попытался пошутить Дунаев.
Баба плакала:
– Ох, бедненькой, ох ты, мой родименькой, и где ж ты так? Кто же тебя так, голубок мой ненаглядный? Ох, боже спаси!
– Тише, баба. Добро, что человек от немцев ушел. Парторг завода перед тобой, так что иди баньку топить, – произнес дед, входя. – Я тебя, сынок, сам выпарю так, что как на свет заново родишься! Венички хорошие смастерил! – И дед широко улыбнулся.
Дунаев тоже улыбаться начал, но улыбка как-то странно натягивала кожу. Он чувствовал себя ватным, на коже выступила испарина.
– Щас я спирту принесу, – успокоенно-хлопотливым голосом затараторила бабка, уходя в другое помещение. – Спиртику родимому нашему, милочку горемычному.
Дунаев сел за стол и съел кусок хлеба. Очень странным, непривычным показался ему вкус хлеба, как будто впервые он ел его. Кусок упал куда-то в глубь тела Дунаева и там осел. Тут подоспела баба со спиртом и солеными огурцами. Дед налил стакан и протянул парторгу. Дунаев взял и посмотрел на деда, который поднял стопочку и тихо сказал:
– За победу! За Советскую власть!
– За победу! За Советскую власть! – почему-то шепотом повторил Дунаев и, чтобы заглушить смущение, опрокинул стакан в рот. Спирт обжег его изнутри, перекрутил несколько раз, и он весь засветился ярко-белым светом, желтоватым снизу и доходящим до алмазного сверкания сверху, в области головы. Дед с бабкой отпрянули в дальний угол, к иконам, и мелко закрестились, охая и нагибая головы. Затем они куда-то исчезли. Дунаев сидел, ослепленный собственным сиянием. Он усилием воли открыл глаза и рот. Увидев все окружающее как будто сквозь морскую воду, он втянул воздух в легкие, и неожиданно сияние ушло в рот и погасло внутри. Теперь все выглядело нормально. Минут десять спустя дед с бабой вернулись и позвали Дунаева в баню. Они вышли на крыльцо. Дед набросил парторгу на плечи старую, еще с гражданской, шинель, сам шел с керосиновым фонарем. Бабка семенила сзади с вениками. Банька стояла на отшибе, в глухом месте, от нее шла с двух сторон изгородь. Домик густо зарос мхом, кустами и елками.
– Банька-то у нас колодезная! Прямо вокруг колодца строили и колодец спрятали. Плохо, если такую водичку подлый немец пить станет, – бормотал дед.
Зашли в баньку и осветили ее. Они стояли в предбаннике, где был столик и две табуретки.
Все русские предбанники чем-то похожи друг на друга. В них всегда присутствуют какие-то мелкие пучки чего-то сухого, чего-то такого, что могло бы понадобиться людям уже умершим или еще не родившимся. Есть там и мелкие полураспавшиеся тряпочки, которые в других местах стали бы скопищем грязи, здесь же поражают неожиданной чистотой, как бы вываренностью, символизируя тем самым, что крошечное и угрюмое пространство с бревенчатыми стенами есть вход в пределы очищения. Наконец, когда пар стал настолько густым, что его струйки просочились в трещинку на стекле крошечного оконца, они вошли внутрь. Дед сноровисто возился с кадушками, отмачивал веничек в душистом кипятке, пахнущем березовыми листьями.
Дунаев сидел на мокрой лавке голый, потеряв себя среди горячего пара, запрокинув голову.
Ему было хорошо. Казалось, пережитый кошмар отступает куда-то далеко, расплываются застывшие в душе мучительные и болезненные сгустки. А когда дед обдал его с ног до головы горячей водой и стал охаживать веничком, Дунаев забыл про то, что пришла война, забыл про немцев, забыл про завод: он почувствовал себя вернувшимся в детство, в свое далекое деревенское детство.
Ему казалось, что он жаворонок: таким, в вышине парящим над землей, он видел себя в глубоком детстве во сне. Крошечные домики среди квадратов полей, маленькие озерца, ковер пушистого леса – все это лежало далеко внизу, было ярко освещено солнцем. Затем Дунаев ощутил, что он стремглав бежит по пшеничному полю, голый по пояс, рассекая пшеничные колосья, мягко хлещущие его по голове и телу. После этого пошли круги вокруг него, и он понял, что плывет по реке, задевая ветви ив, свисающие до самой воды. Вдалеке в тишине квакали лягушки. Нахлынул сырой запах, потом он потеплел и стал запахом костра. Сгустилась ночь, и только были ярко освещены лица у сидевших у костра и мохнатые морды собак, лежащих между ними.
Наконец ушат холодной воды пробудил его от грез. Растираясь чистой тряпицей, Дунаев вышел в предбанник, сел на лавку.
– Ну что, ожил, милок? – подмигнул ему дед.
– Да, отец, прям как заново на свет родился.
Старик хихикнул.
– Что за места, отец? – спросил Дунаев.
– Да как тебе сказать… Места глухие, дремучие. Далеко ты забрался. Дней пять промотался небось по лесу. Здесь до ближней деревни дня три топать пехом, а иначе никак не проедешь. Зовут же деревню Сутолочь. Да только там таперича никакой сутолоки нет и живой души не сыщешь. Потому как народ оттедова уходить стал, да весь и ушел. Остались три двора, да там старичье, вроде меня, с печей не слезает.
– А что так? Почему народ ушел?
– Да пересуды пошли, что лес здесь больно нечист стал, али кто-то на людей страху нагнал, – дед снова рассмеялся прозрачным, радостным смехом. – Народ-то темен в здешних краях. Вот в Ежовку все и подались, что много к югу лежит. Там и сельсовет был.
– А теперь что же?
– Все, как есть, немец пожег. И Ежовку пожег, и Ореховку, и даже Воровской Брод. Одни головешки торчат. Черным-черно.
– Да я знаю… я слышал… – пробормотал Дунаев, и в голове у него мелькнуло смазанное воспоминание о чьих-то словах: «…все в тех деревнях черное, как обугленное, – и деревья, и птицы на них, и избы, и люди в них, и все добро…»
Старик смотрел на него, весело прищурившись.
– Да ты не бойсь, парторг, – подмигнул он Дунаеву. – Сюда немец не забредет, здесь места гиблые. С юга болота лежат, с севера чаща непроходимая стоит. Схороним тебя. Мы с бабой бездетны, вот ты нам заместо сыночка и будешь.
– Спасибо, отец, только не время сейчас мне тут по-пустому отсиживаться. Война на дворе. Надо партизанский отряд организовывать, с фашистской нечистью сражаться. Раз уж забросило в тыл врага, значит, здесь мой боевой пост. Надо бить немцев и в хвост и в гриву.
– Ишь ты какой! – усмехнулся старик. – Уж и в хвост захотел. Это надо умеючи. Горяч ты больно, нетерпелив. Как парень, на свидание собираешься. А немец не прост. Вот поживешь с мое, узнаешь, какие закавыки в человеке незнамом открыться могут. Я-то с немчурой уж повоевал в свое время. К нечисти присматриваться надо, ежели хошь ее одолеть. А так чего? Пойдешь ты в леса да болота да и сгинешь там – людей вокруг на незнамо сколько нету. А если и выйдешь на обжитые места – немцы схватят, и конец борьбе. Себя беречь надо, сынок. Ты ж парторг. Ты Родине советской другую службу служить должен.