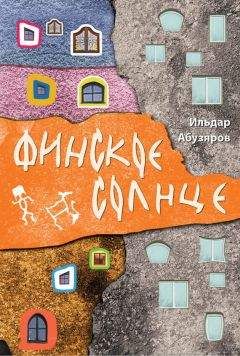– Ну, что вы так напугались? Ничего страшного еще не происходит. Давайте откроем ротик, – одновременно бедуинка зажгла лампу в три арабских солнца.
Но даже три жарких солнца не смогли пересверкать два живых озера ее глаз со зрачками, юркнувшими в ту же секунду в сторону, словно две змейки по голубому ручью.
Да, она прятала даже глаза. И не только глаза. Но что это были за глаза! – глаза бедуинки, что ходит-бродит по Белой крепости, словно по пустыне Сахара. Изнемогает, как и я, от одиночества. Ждет хоть какого оставшегося в живых после череды бесконечных войн мужчину.
Но самое страшное состояло в том, чтобы показать такой красоте свой рот – всю слабость мужчин от Адама и до Содома.
Но я должен его показать, как бы мне ни было стыдно. И я распахнул широко рот, несмотря на то, что уже давно не мог улыбнуться проходившей мимо девушке, даже если она улыбалась мне сама. А бедуинка как ни в чем не бывало берет маленькое зеркальце на длинной ручке, что по размерам сродни моей крепости, и что-то там высматривает, а у меня такое чувство, будто она пускает солнечных зайчиков, пытается зеркалом подать мне сигналы, мол, заходи, путник, мужа дома нет, а потом еще стучит молоточком по стене Белой крепости, и этот стук тоже напоминает мне сигналы для жаждущего непутевого странника.
– Что ты знаешь о Сахаре? – спросил я свою жену когда-то давно, отгадывая сканворд, с тех пор мы уже успели разойтись и вновь сдружиться, спасаясь от длинных вечеров одиночества.
– Во-первых, – начала загибать пальцы жена, – это самая большая пустыня в мире и, я предполагаю, – жена загнула второй палец, – самая жаркая. В-третьих, она в Африке, и там есть оазисы.
“А чем для меня является пустыня? – задумался я. – Вырванные с корнем колючки, катящиеся по барханам, словно выковырянное спичкой из дырок в зубах мясо – мясо, отделенное от кости.
Или треснувшая в засуху после дождя земля, из которой тянутся к небу алые маки – эти зернышки в сдобах с маслом.
А может, для меня Сахара – гадюки-кариесы или сумчатые кенгуру, в сумках у которых гниль детей. Хотя сумчатые, наверное, водятся в австралийской пустыне. А может, у меня во рту вовсе не Сахара, а Каракумы, хоть ори”.
– Ну, что такое? – улыбнулась бедуинка, я видел, как расползлись ее губы под марлевой повязкой. – Всего лишь маленькая дырочка.
– Значит, его можно спасти? – загорелся я, как куст в пустыне.
– Ну, конечно. Без вопросов.
– А вы сможете?!
– Смогу. У вас есть шприц для анестезии?
– Мне не нужна заморозка, – попытался я спрятать подальше гниль мужского племени. А сам подумал, что заморозка для жаждущего странника Сахары – как глоток воды.
Это было волшебство. Настоящее чудо. Меня спасала красивая женщина из “Тысячи и одной ночи”. И в порыве благодарности я готов был полюбить ее на всю жизнь.
Ведь сначала она говорила со мной:
– Сейчас мы удалим треснувшую стенку зуба, затем посадим пломбу на штырь.
А потом и с моим зубом:
– Ну, потерпи, миленький, – потому что я не верил, что она сможет сказать “миленький” мне, подцепляя его щипцами.
А я так и видел ее, нет, не парижанкой в будуаре, с серебряными щипчиками у ресниц, а бедуинкой у раскаленной печи в Сахаре. С железными щипцами, которыми хозяйки на востоке так искусно ворочают в огнедышащей пасти печного ада черный уголь или в спешке переворачивают подгоревшую на раскаленном, как губа, камне лепешку.
В эту секунду я понял, что очень хочу пить и попытался облизнуть губы горячим, как лепешка, языком. Но тут же виновато посмотрел на бедуинку: она была черна от злости и сажи.
Любовь пришла ко мне неожиданно. А боль была безумной. Было слышно, как трещат кость и сердце.
– Ну, вылезай, маленький, – говорила добросердечная отходчивая бедуинка, нагнувшись близко-близко своими небесами к моей Сахаре. Я лежал, закинув голову с темными кругами в глазах, и сквозь них были видны только ее глаза и еще часики на руке.
Потом началась работа, кропотливая, медленная, какая бывает только у бедуинок, молотят ли они зерно или ткут из длинных ниток ковер. Только сейчас я заметил, что у девушки на левой руке часики позолоченные – а как же еще, как же бедуинке без золота? Ведь в ее роду все мужчины – воины.
А в это время бедуинка уже ковырялась в моем зубе иглой, выковыривая остатки еды, словно веничком взбивала в горшке яйца с сахаром. А затем подносила к моим губам боры, издающие такой яростный визг, словно это дикие племена берут штурмом Белую крепость. Толпы мужчин с небритыми лицами, с горящими глазами, с соколами-колчанами на плечах, что готовы в любую секунду клюнуть тебя в глаза острым клювом стрелы.
А бедуинка то и дело меняла наконечники, словно поднося защитникам Белой крепости боеприпасы, а потом – снова дикий визг, от которого становилось невыносимо тошно.
Значит, они говорят, что мое творчество – все сплошь черный кофе и сливки, да еще булка, пропитанная маслом и нашпигованная изюмом. Да так, что изюм уже проник во все дыры в зубах, сросшись с мякотью кости.
Что мое творчество – один лишь сплошь изюм, уже навязший в зубах. Набивший оскомину. Да так, что врачи мне настоятельно советуют: не ешь больше сладкого – тебе вредно, не пей больше кофе – тебе нельзя. Но я буду его пить, потому что мое творчество – еще и любовь к женщинам, что наполняют по вечерам кафе. И одиночество по ночам.
А еще, – подумал я, секунду спустя, – Сахара для меня – бедуинка. Девушка, прячущая свою красоту под туникой и штанишками, под черной повязкой, прикрывающей пол-лица. Ее руки – волшебные руки, – заваривают ли они кофе в Белой крепости, моют ли они чашки из белого фарфора у ручья.
Открыв рот, в буквальном смысле слова, я любовался ее руками, выгребающими гниль и сор из углов Белой крепости, выносящими гниющие трупы моих погибших надежд. Трупы воинов, трупы мужчин, на которых я в разные периоды жизни мечтал походить.
Почти не дыша, чтобы не дергать губами, я смотрел, смотрел: то на голубой ласкающий взор-родник, то на солнце часов сбоку от горбинки носика, что располагало женское естество к весенней чистоте.
– Можете сплюнуть, – сказала бедуинка, и я сплюнул окрашенные кровью ватки, словно у меня менструация. Словно мы с ней вдвоем – две женщины в Белой крепости, пока наши мужчины воюют. И у меня менструация. И мне плохо. И она наклоняется надо мной, чтобы поддержать в трудную минуту, – ну, все равно, я ее люблю.
– Сейчас будет немножечко больно, – сказала бедуинка, не понимая, что мне уже давно больно, больно с того самого момента, как я увидел ее глаза и мальчишеский носик, и мои нервы натянулись в струны, а она берет иглу и проникает еще глубже в мое сердце, накручивает нерв сердца по спирали и рвет.
Боль, похожая на боль от укусов собаки, когда у меня по всему телу, на икрах, животе и в паху остались шрамы. Боль, похожая на что-то среднее между вырванными кусками мяса и прищемленным пальцем в детстве, после чего мне подарили солдатиков-всадников в буденновках.
И будто из детства перед глазами возникает картина, как за мной гонятся всадники, а хранители Белой крепости норовят захлопнуть ворота перед самым моим носом. А потом бедуинка приоткрывает мне губы, проникает в рот, и холодная вода по капле орошает всю горящую полость – там, внутри.
– Что же вы постоянно закрываете рот? – недовольно начинает ворчать бедуинка, не понимая, что я мечтаю прикоснуться губами к ее нежным пальцам. Чтобы она прикоснулась своими нежными пальцами к моим воспаленным губам. Как тогда, в детстве, когда мама гладила меня пальцами по волосам, после того как мне прищемили палец и у меня почему-то болела голова. Ведь мой рот – Сахара, в которой одни лишь колючки, и они норовят уколоть в самые незащищенные места.
– Рот закрывать не надо, – бедуинка сует мне в рот шланг и пускает поток теплого воздуха.
В какой-то момент боль проходит, потому что бедуинка нагибается к моему плечу низко-низко, чтоб в очередной раз сунуть сухую ватку за щеку, и нечаянно дотрагивается до моего плеча. И я сразу ощущаю, насколько мягко ее прикосновение, словно это два горба верблюда среди двух барханов. И мы идем с моей бедуинкой по Сахаре – одни на тысячу верст. Я, раненный огромной красной луной, веду евнуха-верблюда под уздцы и то и дело оглядываюсь на курносую бедуинку, чтобы увидеть ее улыбку, ее налитые, как луна кровью жертвенных ягнят, губы.
Да, я хочу ее губы, влажные, сочащиеся, ведь я так давно не целовался. Губы, а не эту сухую ватку, что она засунула мне в рот сразу же, а потом постоянно меняла. И хотя ватка похожа на снег или на манну небесную, но от нее в Сахаре становится только суше. А настоящая манна – это ее губы. Ну, улыбнись!
– Вот и все, самое страшное позади, – успокаивает меня бедуинка, улыбаясь. – Сейчас будем восстанавливать стенку. Только не закрывайте рот, – и она сует мне шланг для отсоса слюны, – штырь я вам ввинтила, теперь будем подбирать пломбу.