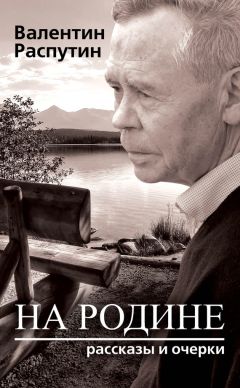– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!
И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.
Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.
– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.
– Сгори-и-ит! – мать-перемать.
– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!
– Сгори-ит! – надрывался начальник.
– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.
Она зарыдала.
Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:
– Ломайте!
Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.
– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!
Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.
И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:
– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.
Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…
И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:
– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!
Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.
К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.
Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравненье понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.
Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды – в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке Т-34 судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровку: господи, да она же не стоит, она лежит! – до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся за войну – и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, – то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.
Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же… как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.
Но в раздумьях и неуверенности он замешкался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.
Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.
Так он считал. Он и теперь так считает, но что делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» – не ради сильного словца, а так оно и есть.