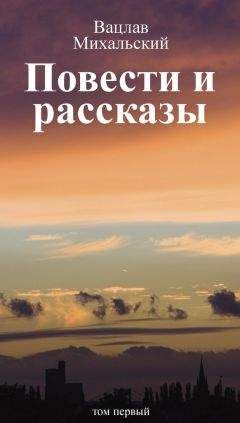Хромой, жилистый счетовод Муслим прыгал вокруг своего клиента, вскидывая сухую ногу, косился желтоватыми глазами на соперников и всегда повторял одну и ту же шутку:
– Эй, когда Вартан тебе нос отрежет, он немножко свой даст. У Вартан нос на всех хватит!
И клиенты, и брадобреи, и зрители, как правило, изъяснялись между собой на русском языке. Причина этого была проста: и в городе, и в ауле, и вообще окрест жили люди многих национальностей. Не считая русских, украинцев, поляков, евреев, армян, только коренных народностей проживало от века в наших краях не один десяток. Это до войны, а в войну еще хлынули беженцы. Говорят, что в общей сложности через наш город их прошло не меньше миллиона.
Похожие на сабли бритвы сверкали на солнце, бреющиеся держали в руках рамки для направки, пахло мыльной пеной, смешанной с грязной щетиною.
Дети из аула не ходили к конторе, хотя идти им было совсем недалеко, километра полтора. Наверное, матери аульских мальчиков и девочек считали, что на всякий случай им лучше держаться подальше от начальства. А что касается меня, то все знали, что я внук Адама, и, наверное, в глазах этих взрослых это было высокое положение, так что меня никто не обижал ни действием, ни словом, ни даже косым взглядом. Я был в хороших отношениях со всеми тремя брадобреями, но больше всех любил дедушку Дадава и всегда болел за него.
В конторе не работало ни одной женщины, и посиделки возле нее были только мужские. О чем это говорило? Да только о том, что ни русские, ни другие некоренные уроженцы не лезли со своим уставом к коренным народностям нашего края. Межнациональное уважение было в те времена оплотом всего нашего общества. Может быть, сейчас кто-то и не поверит мне, но я не могу изменить своих воспоминаний в угоду изменившейся жизни.
Я очень долго смотрел состязания брадобреев и ушел огорченный оттого, что ни разу не победил мой дедушка Дадав.
Иногда в конторе включали черную тарелку репродуктора, висевшего на столбе, и тогда все слушали сводки с фронта. Когда я уходил домой, как раз включили радио.
– От Советского Информбюро, – прозвучал за моей спиной знакомый всем в нашей стране легендарный голос, наполненный праведной силой и властным спокойствием. – Войска Первого Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским районом Маобит, Ангальтским вокзалом и заняли сто семьдесят семь кварталов в центральной части города… – Затем диктор озвучил потери немецких солдат и офицеров, трофеи, добытые в боях, а когда я уже подошел к своему дому и потянулся к дверной ручке, Левитан произнес: – Войска Первого Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли южную часть городского района Вильмерсдорф…
Память у меня в те времена была близка к абсолютной, например, когда тетя Клава читала мне «Робинзона Крузо», я запоминал страницами, и эту сводку запомнил. Потом, когда уже при антисоветской власти моя младшая дочь купила квартиру в Вильмерсдорфе и я приехал к ней погостить, то сразу вспомнил это последнее апрельское воскресенье 1945 года и чеканный голос Левитана из черной тарелки, и дедушку Дадава, который не смог тогда победить ни Вартана, ни Муслима.
Дедушке Дадаву вообще не везло той весной. В следующее воскресенье он победил и Вартана, и Муслима, но зато принес не ту газету, которую следовало, машинально вытер грязную мыльную пену со щетиной о портрет вождя на газетной странице, машинально сунул потом газету в фанерную урну у дверей конторы.
Отшумел День Победы, а дедушку Дадава начали «таскать». Так сказал мой дед Адам:
– Дадава начали таскать. Неправильно бритву вытер. Жаль, если затаскают.
Затаскали. Однажды дедушка Дадав пропал раз и навсегда.
XIXМой дед Адам, Бабук и тетя Нюся поселились здесь, на берегу канавы между горами и морем, еще до войны. Тетя Клава и тетя Мотя прибились к нам в самом начале войны. А моя мама, моя сестра Ленка и я тоже приехали сюда до войны.
О подробностях нашего переезда из Таганрога я узнал только в юности, когда случилось то, что случилось, и мама была вынуждена рассказать мне многое, хотя и урывками, со многими пропусками и недоговоренностями.
Например, я узнал, что родился семимесячным, а у мамы на руках к тому времени была трехлетняя Ленка, которую она родила в шестнадцать лет, а, значит, меня – в девятнадцать. Когда я родился, моя мама фактически осталась вдовой. Это потом мне рассказывали сказки, что отец пропал без вести на войне. И я воображал себе страны, в которых мог быть после войны мой отец, пропавший без вести, то есть не имеющий возможности подать о себе весть. Я тайно писал отцу письма и закапывал их под деревом, так как посылать их было все равно некуда.
А приехать сюда, в наши края между горами и морем, посоветовал моему деду Адаму сам Франц, побывавший задолго до войны то ли в Ростове, то ли в Таганроге. Я точно не знаю, когда и где они с дедом встретились, но знаю, что Франц сказал: «Приезжайте ко мне. У меня им не до русских, поляков и прочих греков. У меня местные разбираются с местными. Хотя разнарядка, она везде разнарядка».
Я не раз слышал эту цитату от деда, но смысл ее не улавливал, особенно про «местных» и про «разнарядку». Это сейчас общеизвестно, что в те времена, с одной стороны, был порядок, а с другой – на все была разнарядка, в том числе и на количество граждан, подлежащих этапированию «на места заключения» от той или иной области, города, района.
Мой дед Адам приехал в Дагестан сначала один, а обосновавшись, перевез Бабук и тетю Нюсю. Я не знаю, в каком году это было, известно только, что Ленка уже давно родилась, а я еще нет. А также известно, что в те времена у нас в Таганроге все было для нас хорошо. Мы жили в заводской квартире в большом доме. Мой отец хотя еще и не закончил заочный институт, но уже работал инженером и «висел на Доске почета». Сейчас не очень понятно, что такое Доска почета, а в те времена это говорило о многом.
Потом я узнал, что мой дед Адам задолго до революции 1917 года одно время работал водителем-механиком у начальника строительства железной дороги Порт-Петровск – Темирхан-Шура. Эта железная дорога жива по сей день и ведет от моря в горы. Деду платили в месяц 150 рублей золотом, но приехал сюда он вовсе не из-за денег, а потому, что надеялся найти следы своего отца, которого так же, как я своего, он никогда не видел. Мать моего деда, имени которой я так и не знаю, как-то обмолвилась, что отец ее сына Адама служил офицером в Темирхан-Шуре. Этой ее обмолвки вполне хватило моему деду Адаму, чтобы потом искать следы своего отца в Дагестане. Следов он не нашел, но наша судьба сложилась так, как сложилась, и мы прижились там, где прижились.
Моя мама Зинаида Степановна умела рассказывать сочно, на большом эмоциональном подъеме, но в тот день она говорила со мной почти без интонаций и так скупо, будто рассказывала не о себе, а о каком-то чужом, смутно знакомом ей человеке. Мне шел девятнадцатый год, я с горем пополам окончил среднюю школу, вернее, одну из школ, из которых меня только официально исключали четыре раза, и работал бетонщиком на заводе железобетонных конструкций. Я учился в школе так плохо, что ни о каком институте и речи не было – я сразу пошел работать в ожидании призыва в Советскую Армию. Работа у нас была посменная. И вот однажды, вернувшись домой после ночной смены и уже не застав дома ни мамы, ни отчима, которые ушли на свои работы, ни моего единоутробного брата Володю, которого мама по дороге на свою работу отвела в детский сад, я сел пить чай, потому что уже с утра было очень жарко. Перед чаепитием я плотно завесил окна квартиры ватными одеялами, расстелил старенькое ватное одеяло на полу в большой комнате, кинул на него подушку, словом, приготовился к заслуженному отдыху. В нашей двухкомнатной квартире стало темно, только на кухне, окно которой выходило на запад и еще не было прямого солнца, царил мягкий дневной свет теневой стороны. Таких царских удобств, как вода, канализация, паровое отопление, ванна или хотя бы душ, в квартире у нас не было. И зимой, и летом все удобства помещались во дворе. Деревянный сортир, с левой стороны которого шли «удобства» «М», а с правой «Ж»; водопроводная колонка в углу двора, прославленная в округе тем, что в ней всегда был хороший напор воды – редкость для нашего города. Кстати сказать, после чая я имел в виду сходить под колонку с куском мыла и как следует вымыться перед сном. Хотел, но поленился, решил вымыться к вечеру, как только проснусь.
Я уже засыпал, когда в коридорчике упала почта. Во входной двери в квартиру у нас была прорезана щель, прикрытая куском резины. Приподняв эту прибитую к двери резину, почтальонша и бросала в щель нашу почту. Я услышал, как упала почта, упала два раза, так что, видимо, не одна газета, а и еще кое-что. Я все услышал, но не совладал с собой и уснул.
Проснувшись, я долго разглядывал золотистые, как бы пульсирующие каемки света, пробивавшегося по краям одеяла, которым было завешено окно, и думал об этих каемках. Я не могу сказать, что я о них думал, что-то неясное, но думал как о живых существах, которым как бы я дал жизнь, завесив окно одеялом и таким образом создав эти золотистые живые каемки света. «А ведь к ночи они погаснут, – подумал я сначала почти равнодушно, а потом очень тревожно, – погаснут?! Погаснут…» И мне стало так жалко эти каемки солнечного света, как будто вместе с ними раз и навсегда уходила часть моей жизни. Конечно, уходила, а как же иначе? Все ускользает, все гаснет, все уходит. Я остро чувствовал это давным-давно – лет с одиннадцати, а может, с двенадцати. Обычно мировая скорбь посещает живые души гораздо позже. А меня посетила рано, и когда, например, школьный педагог, у которого всегда не сходились с ответом задачи, которые он пытался показательно решать на доске, в конце концов вызывал отличника Блантера и у того все сходилось с первого раза, когда этот педагог читал мне очередную нотацию о том, что я тупица и «адиот», я слушал покорно, скорчив самую-самую печальную и кающуюся рожу, а сам думал о нем: «Интересно, вот ты умрешь, а какой будет у тебя череп: светлого или желтоватого оттенка? Как будут лежать в могиле твои освобожденные от бренного тела кости?» И что он мог мне объяснить, как пронять меня мой бедный учитель?