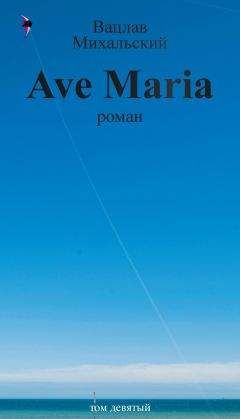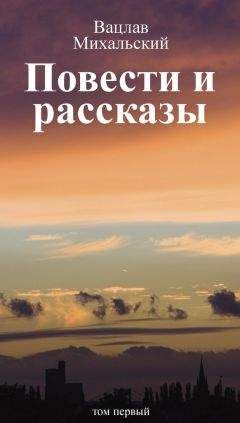Далеко на юго-востоке оторвалась от пепельного горизонта черная точка, одновременно с той стороны дохнул суховей и нанесло легкий запах серы.
– Теперь чую, – сказала Александра, – но, в общем, терпимо.
– Это состав еще во-он где, а подойдет близко – хочь бежьмя бежи! – возразил Дяцюк. – Его часа два будут сдавать-принимать – нанюхаемся до поросячьего обмороку!
– И как те люди живут, что с серой работают? – простодушно спросила Александра.
Дяцюк взглянул на нее исподлобья. С отвращением потянул носом крепчающий с каждым порывом суховея запах серы.
– Недолго.
Когда платформы с серной рудой прибыли на станцию, стало понятно, насколько прав был Дяцюк.
– Ты косынку к роту и носу прикладывай, вон как я платочек, – посоветовал он.
Когда наконец бригада сменилась и Александру через кабину паровоза провели в тендер, ей почудилось, что она в преисподней: раскалившийся за день солнцепека железный вагон, запах серы, запах угля, тьма.
– Не бойтесь, – сказал ей помощник машиниста Витька Дяцюк, – сейчас я форточки пооткрываю – станет светло, а тронемся – серную вонь будет относить назад, по ходу. А что уголь пахнет, так принюхаетесь.
Парень обращался с «зайцем» Александрой обходительно, видно, отец дал ему хорошую накачку.
– Туточки в ящике и матрац, и одеялка байковая, и подушка соломенная. Стелитесь и спите себе на здоровье, а к рассвету и до Москвы домчим. Вон вода питьевая, вон в баке вода умыться, только кран открыть, вон ведро, а форточки у нас большие. – Он с грохотом открыл две форточки на засовах, и действительно в вагоне стало почти светло, во всяком случае, все можно было различить, все найти.
Скоро состав тронулся в путь, и выяснилось, что тендер вовсе не преисподняя, а место, в котором вполне можно обитать, смиряясь с серной вонью, угольной пылью, грохотом. В большущем деревянном ящике Александра расстелила матрац, положила в головах подушку, набитую соломой, давно пропитанной угольной пылью, и с одеялом в ногах почти мгновенно уснула. И ни грохот, ни угольная пыль, ни запах серы, наносимый в тендер на коротких остановках или там, где поезд замедлял ход, – ничто не помешало Александре проспать часов до трех утра, и то она проснулась лишь оттого, что стало холодно и пришлось укрыться байковым одеяльцем. В открытые форточки тендера уже серел рассвет, а состав шел по дальнему Подмосковью.
Александра добралась до дома ранним утром. Она застала маму у водопроводной колонки в глубине двора, где та полоскала белье. Александра помогла ей крепко выжать белье и внести его в дом в цинковом корыте. Мелкие постирушки они развесили в комнате на специально натянутой для этого веревке, у стены, дальней от входа, а четыре простыни и три наволочки – на телефонной проволоке, протянутой между «дворницкой» и старым тополем. Особое удобство тут заключалось в том, что при открытой двери их «дворницкой» белье на проволоке просматривалось, то есть находилось под их полным контролем. Времена были такие, что не только постельное белье, а и старую половую тряпку нельзя было оставлять без присмотра.
Пока Александра переодевалась с дороги, мама вскипятила чайник.
– Ма, вот я привезла мяту и душицу, завари.
– Молодец, что привезла, заварю, конечно. За чаем и расскажешь, что и как, хотя по глазам вижу – мало хорошего.
Чай с травами был очень вкусный…
– Вот и все, – закончила Александра рассказ о поездке на поиски Адама. – Все…
Мама долго молчала.
За стеной кочегарки было по-летнему тихо, и во дворе тишина, даже с улицы не доносились обычные звонки трамваев. Во дворе уже вовсю светило солнце и потихонечку вступал в силу томительный зной, а у них в «дворницкой» была благодать. Александра привезла с собой от Ксении не только душицу и мяту, но и несколько веточек чабреца, которые она сорвала в степи за поселком, и теперь в комнате горьковато пахло степным привольем.
– Давно я не была в степи, – наконец сказала мама, растирая между ладонями пахучие листья чабреца. – Представляю, какая там красота. Скоро Надиному Артему пять лет… Она приглашает. Ты смотри, не проговорись про мужа.
– Надя в курсе, что я уехала на розыски, как же я промолчу?
– Я о том, что Адам осужден… Не надо ей знать этого… Никому не надо, не нашла – и все.
– Наверное, ма, ты права, а я бы ляпнула. Ты права, к сожалению, – добавила Александра с усмешкой. – Я так пропиталась угольной пылью в этом тендере, что и переодевание не помогает.
– Пойдем-ка мы с тобой в баню, – предложила мать, – летним днем, а тем более с утра, там более-менее свободно. Простыни-наволочки снимем – наверняка высохли на этой жаре – и пойдем. Завтра тебе на работу, а мне к Артему.
В те времена ванные комнаты в квартирах были большой редкостью. Основная масса людей пользовалась городскими банями. Накануне войны в столице действовало пятьдесят восемь городских бань, в которых могла мыться одновременно двадцать одна тысяча человек. Конечно, были еще бани заводские, фабричные, ведомственные, то есть бани, закрытые для посторонних. В годы войны количество бань резко уменьшилось, из-за нехватки угля топили там торфом с Сучьих болот (район Южного порта), сплошь и рядом вода в банях была не горячая, а теплая. После войны банное хозяйство города быстро наладилось. Термин «помывка народонаселения» мелькал в газетных отчетах с коммунального фронта столицы. Например, в 1947 году, согласно отчетной статистике коммунальщиков, народонаселением Москвы было совершено сорок девять миллионов триста двадцать одна тысяча «помывок». В одну из них и попали мать с дочкой.
– Славно помылись, – сказала Александра, переступив порог «дворницкой». – Я как снова на свет родилась после тендера.
– Вот и живи, доченька, – ласково сказала Анна Карповна, – главное – учись!
– Мам, ну ты о чем ни заговоришь, обязательно закончишь: «Главное – учись»! Это у тебя пунктик: «Карфаген должен быть разрушен»!
– Давай-ка я еще чайку заварю твоей душицей и мятой, – миролюбиво сказала мать, – не сердись.
Они пили чай с удовольствием, заварка получилась очень ароматная, а сахар вприкуску еще и оттенял запах душистых трав.
– Ой, ма, если б ты видела, какие у нее дети! А глаза и у девочки, и у мальчика – глаза Адама, такие грустные… Боже, как я хочу своего ребеночка…
– В институт поступишь – и выходи замуж, а маленького я подниму, пока при силе.
– За кого замуж? Я замужем.
– Саша, ты понимаешь, что это не совсем так…
– Понимаю. Если Адам жив-здоров и вернется, я все равно не стану отнимать у детей отца.
– Вот и я о том же, – тихо сказала мать, – тут обсуждать нечего. А что мы подарим Артемке? Я, например, свяжу ему свитерок, носочки, варежки, а ты?
– Не знаю… надо подумать. Слушай, а давай подарим ему моего любимого «Робинзона Крузо». Книжка цела?
– Цела. – Мать прошла к деревянному ларю у двери и скоро вынула оттуда большую книгу, обернутую поверх твердой обложки газетой 1925 года. Это была первая книга, которую Сашенька прочла не говорившей по-русски маме. Они читали весь первый класс.
– Ма, а мы ее тоже с помойки принесли? Я что-то не помню, – снимая пожелтевшую газету с книжной обложки, спросила Саша. – Ой, какая красивая! Какой Робинзон на обложке красавец! И козьи шкуры на нем. И ружье за плечами, и островерхая шапка! Неужели с помойки?
– Нет, это была первая и единственная книжка, которую я купила тебе сама, – светло улыбаясь, проговорила Анна Карповна. – Мы ведь тогда с тобой приехали в Москву, как на необитаемый остров высадились. Вот я увидела на лотке эту книжку и не смогла устоять, хорошо, книги тогда были дешевые.
– Они и сейчас недорогие. А иллюстрации в ней цветные – прелесть! Отличный подарок: любимая книжка крестной матери крестному сыну.
– А ты так и подпиши Теме, – предложила Анна Карповна. – Память будет хорошая, да и книга важная, как говорится, на все времена. А Тема уже вывески читает. Вот пусть и начинает читать эту книжку, пусть учит меня русской грамоте. Думаю, это ему понравится, он любит руководить.
– Хорошо придумала, ма, молодец! Ты учишь его украинскому, а он будет учить тебя русскому. Кстати, как он по-украински?
– Отлично! Как мы с тобой. У него абсолютный музыкальный слух, он и по-армянски говорит так, что от зубов отскакивает, и песни армянские поет с отцом. Молодец Карен! Если бы не он, Надя бы точно испортила парнишку.
С тех пор как вернулась с войны Александра и они стали говорить дома по-русски, Анна Карповна еще больше замкнулась на людях, слово боялась проронить – вдруг выскочит русское, да еще с ее безупречным произношением.
XIIПосле возвращения из Семеновки весь мир для Александры словно подернулся пеплом, и дни потянулись один тоскливее другого. Закончилась большая часть ее жизни, наполненная и радостью встречи с Адамом, и горечью его утраты, и надеждой на то, что еще на этом свете, Бог даст, они все-таки опять воссоединятся, как предназначенные друг для друга половинки. Теперь стало окончательно ясно: не воссоединятся. Все окружающее: и дома, и люди, и деревья, – вдруг потеряло яркость своих подлинных красок, посерело и как бы слилось в один общий серый тон. Потом, через много лет, кто-то сказал Александре Александровне, что серое имеет триста с лишним оттенков. Она вспомнила о своих первых послевоенных годах, подумала: какое же тогда было для нее все «серое», какого оттенка? Нет, на этот вопрос она не смогла ответить. Видимо, только радостный человек способен различить триста оттенков серого, а безрадостному все они как один.