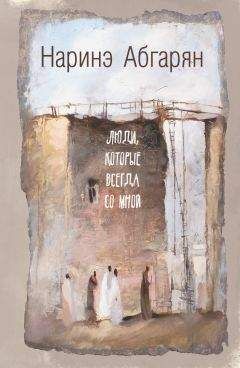Ознакомительная версия.
– Если бы не будущее твоего сына, я в твою сторону даже не посмотрел бы, – не остался в долгу тер Согомон.
– Вот и не смотри, чего пришел?
– Василий, у тебя остался большой ковер, тот, который соткала твоя мать, царствие ей небесное. Я его помню с детства.
Василий хмыкнул, поставил молот наискосок, перегораживая вход в кузню. Прошел к деревянному забору, распахнул калитку, показывая всем своим видом, что визит священника затянулся.
– Если его продать, – невозмутимо продолжал тер Согомон, – можно оплатить год обучения Амаяка. Я сходил к Левону беку, поговорил с ним. Он готов часть расходов по обучению твоего сына взять на себя.
– Левон бек мне шесть рублей задолжал, – сложил руки на груди Василий. – Попросил выковать кинжал, а за работу не расплатился. С чего это он будет оплачивать обучение моего сына?
– Забыл, наверное. Ты же знаешь богатых людей. Для них шесть рублей – что медный грош. Сходи к нему, напомни о долге.
– Стану я унижаться!
– Я тоже могу помочь. Денег у меня немного, но тридцать… или даже пятьдесят копеек в месяц я могу высылать Амаяку.
– Дереник, – Василий намеренно назвал священника мирским именем, знал, что он этого на дух не переносит, – иди отсюда подобру-поздорову. Отрекся от семьи, ушел в церковь, вот и служи там. А в наши дела не суйся.
День был неспокойным, хмуро-облачным. Пахло сыростью и скорым дождем. Широкие рукава сутаны тера Согомона, поддетые ветром, то вздувались крыльями, то обратно опадали. Большой, тяжелый наперсный крест качался на груди маятником. Отчаявшись унять беспокойную пляску креста, священник сложил на груди руки. Василий нахмурился, отвел глаза – указательный и средний пальцы тера Согомона имели ту же форму, что и его пальцы, – они были немного изогнуты и глядели кончиком ногтя не прямо, а вбок.
Священник вздохнул, покачал головой, медленно пошел к калитке. Перед тем как выйти, сделал последнюю попытку:
– Ребенка жалко, Васо. У него такая светлая голова – весь в нашего деда…
– Не доводи дело до греха, Деро, – перебил его с раздражением Василий. – Уходи.
О своем разговоре со священником отец Амаяку не обмолвился. Но, к большому удивлению и радости сына, разрешил ему два раза в неделю ходить к теру Согомону – за книгами и занятиями математикой и историей.
– Как только Гарегин отучится и устроится на работу, отправлю тебя к нему. Вместе мы твое обучение выдюжим, – обещал он Амаяку.
Василий сдержал свое слово: когда старший сын с блеском окончил Бакинский университет и, по протекции нефтепромышленника Степана Лианозова, устроился преподавателем в гимназию, он отправил к нему Амаяка.
– Кто бы мог подумать, что у меня, простого деревенского кузнеца, оба сына станут учеными людьми, – радовался он, провожая сына на станции Акстафа. Амаяк молча обнял отца. Он не узнавал его – всегда уверенный в себе, могучий, немногословный и жесткий – отец суетился, уводил взгляд в сторону, дрожал голосом… Двадцать верст горной дороги до железнодорожного вокзала они проделали почти за сутки – на старой дедовской телеге. Теперь отцу одному возвращаться в Берд.
– Я не подведу тебя, – обещал ему на прощание Амаяк.
– Напиши, как только доберешься.
– Хорошо.
Первое письмо из Баку пришло через два месяца. Братья прислали отцу фотокарточку. Гарегин – ухоженный, худощавый, красивый, в строгом сюртуке, сидел на стуле, а разодетый в гимназическую форму Амаяк стоял рядом, положив руку на плечо брата. Оба улыбались. Василий долго разглядывал фотокарточку, перечитывал надпись: «Папе – от сыновей Гарегина Меликяна и Амаяка Меликяна. На вечную память. Баку, 1918 годъ».
– Ну наконец-то они вместе, – вздохнул Василий.
Спустя месяц в Баку случились чудовищные армянские погромы.
Гарегина убили нечеловечески жестоко – избили до полусмерти, долго пытали, а потом кинули в яму с мазутом. Амаяка спас бывший однокурсник брата, Керим-хан. Он отбил его у толпы погромщиков, увез в загородный дом отца. Потом, когда в городе стало относительно безопасно, Керим-хан вывез его на железнодорожный вокзал. Долго плакал, просил прощения за то, что не уберег Гарегина. Амаяк, как ни старался, не смог выдавить из себя ни слова – да и что тут скажешь. Он молча обнял своего спасителя и поднялся в вагон.
Пока Амаяк находился в пути, весть о погромах и гибели сыновей дошла до дома. Убитый горем Василий замкнулся, ушел в себя. К возращению Амаяка оказался не готов, даже не узнал его – давно уже похоронил обоих сыновей там, в неспокойном Баку. Амаяку иногда казалось, что отец живет в каком-то другом, пятом измерении, и в этом измерении ему не радостно и не безмятежно, а наоборот, суетно и беспокойно. Словно в ожидании на вокзале – кругом толпы народа, снуют грузчики, шумят пассажирские и товарные поезда, уезжают одни люди, приезжают другие, а твой маршрут никак не объявят. Отец плохо спал, круглые сутки проводил на кузне – дома ему было неприютно и страшно. Амаяк несколько раз пытался вывести его на разговор, но ничего не получалось – Василий или раздражался и скандалил, или же угрюмо отмалчивался. Он не замечал ничего вокруг – ни свадьбы сына, ни рождения внучек. Так и ушел, ни с кем не попрощавшись, – одинокий полубезумный старик, не простивший себе того, что случилось с сыновьями.
В послевоенные годы было невыносимо голодно, казалось – голодней, чем в войну. Урожай на клочке земли у реки никогда не дозревал – его подворовывала вечно голодная детвора. Яблони обрывали сразу, потом пропадал кизил и фундук, а вот айва держалась долго – иногда до поздней осени. Но в ноябре пропадала и она – лишь на макушках деревьев, там, куда не могли добраться дети, оставалось несколько некрупных, оранжево-желтых, терпких на вкус плодов. Амаяк не роптал, не ругался, не пытался вычислить воришек – кругом стояла такая нищета – хоть волком вой. Черные кирпичики хлеба – в народе его почему-то называли «клуч» – привозили в крепко заколоченном, смахивающем на гроб ящике. Повозку с хлебом сопровождала вооруженная конная милиция. Черные, тяжелые, несъедобные кирпичики расходились в считаные минуты. Хлеба не всегда хватало, поэтому в очереди случались ссоры и драки. Конная милиция разгоняла людей выстрелами в воздух – Амаяк с горечью наблюдал, как расходятся, возмущенно причитая, женщины, как угрюмо переругиваются с милицией мужчины.
Многие брали продукты в долг – до получки. Амаяк завел специальную долговую тетрадь, куда аккуратно записывал фамилию должника и сумму, которую тот обязывался до конца месяца внести в кассу магазина. Напротив суммы стояла подпись должника. Иногда долг за этот месяц приходилось переносить на другой – то похороны, то нищая, но свадьба, то детей в школу собирать. Он всегда шел навстречу людям – да и как не пойти, глядя, какая кругом беспросветная нищета?
Очереди за хлебом и молоком выстраивались с вечера. Каждый селянин приходил со своим камнем. Люди выкладывали их в шеренгу у входа в магазин, на каждом камне – отметина владельца, и расходились по домам. К закрытию магазина кра́я каменной шеренги было не разглядеть. Амаяк знал все эти камни в лицо. Вон тот, с крестом на шершавой макушке, принесла Анико – старшая дочь священника тера Согомона. Тер Согомон, неумело орудуя молотком и зубилом, собственноручно высек этот крест. Он прожил долгую и достойную жизнь, сто два года, умер в 1950-м. После его ухода Анико не станет выкидывать этот камень с выбитым кривеньким крестом, и единственное, чего попросит у детей перед смертью, – положить его с собой.
Большой, с продольной неглубокой трещиной камень – темно-серый, в желтых прожилках – принадлежал семье Трусиканц Григора. Григор и его братья были из рода Меликсетян, но все называли их Трусиканц. Отец Григора, Анатоли Меликсетян, был просвещенным человеком, много читал, много знал, модно одевался. Он первым из бердцев надел трусы на резинке – остальные по старинке «подпоясывали» белье суровой нитью или же обрывком веревки. Бердцы всегда были скептически настроенными, махрово-провинциальными людьми, держались своих традиций как чего-то абсолютно незыблемого. И обладали весьма специфическим чувством юмора и крепкой памятью. О характерных особенностях односельчан Анатоли Меликсетян почему-то позабыл и неосторожно растрезвонил о своих трусах на весь Берд. За смелый поступок отца суждено было отдуваться сыновьям и внукам – отныне и во веки веков все потомки Анатоли носили гордое прозвище Трусиканц.
Вон тот, кривобокий, весь в налете серого лишайника камень принадлежал Тушкинанц Любе. Отец Любы, Закар Атоян, отчаянно картавил, а в волнении путал звуки. Однажды его вызвали в школу – поговорить о поведении сына, который упорно не хотел учить наизусть стихи. По программе как раз проходили Пушкина, поэтому учитель русской литературы, дабы придать разговору веса, делая многозначительные паузы и глядя поверх очков в переносицу Закара, щедро сдабривал свою речь цитатами из стихов поэта. Закар плохо понимал по-русски. Он стоял перед учителем навытяжку, переминался с ноги на ногу, мял в руках картуз и ждал, когда его отпустят, чтобы вернуться домой и старательно отлупить ленивого сына палкой для выбивания шерсти. Но учитель в тот день был особенно многословен – он хватал с полки то один, то другой учебник, тряс перед носом Закара, а потом переходил на непонятный тому русский и, напирая на фамилию поэта, декламировал отрывки из «Онегина».
Ознакомительная версия.