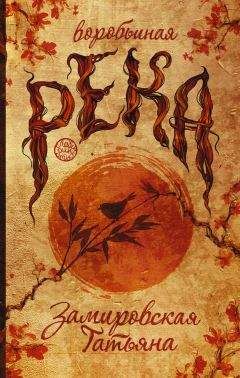С другой стороны, вот он с ней поехал кататься на лыжах, вместе со всеми – выходит, здоровенькая приехала, боевая, задорная, ноги-руки-голова. И понятно, откуда приехала, чего обсуждать, как-то к Петровским, мы сразу вспомнили, таким же образом бабушка приехала из Владивостока и сидела там у них, сидела, и варила, и парила, и закатывала банки с пряным зеленящимся перламутром отшумевших соцветий мертвого лета, и ставила на стол пышные, ночами колобродящие в тазах тугой тестяной мышечной силой пироги-чиненки и булки-плетенки, и жарила, и гладила, и даже успела вышить крестом пару картин с поездами (зачем-то вышивала только поезда – видимо, потому что приехала на поезде), и так вот нашила, назакатывала и напекла всего на целую вечность вперед, а потом весело сказала: ну все, идите провожать меня на поезд, и всей семьей пошли провожать, посадили в поезд, тоже, кстати, восьмичасовой был, а потом пришли домой и вспомнили: умерла же бабушка! Пять лет как умерла! Но пока раскатывала этими теплыми руками дышащее и розовое, как щенячий живот, тесто – никто и не вспомнил, как с мордобоем делили эту кривую деревенскую хатку чуть ли не прямо на поминках.
Вот так и жена Резничева – мы-то помним, как пили чачу на похоронах под Pulp, чтобы было веселей, и как Резничев, обезумевший от горя, роскошно пел караоке «Wanna live with common people!» – а теперь все это помним только мы, а Резничев все утро ходил, как зарезанный, сочась слезами и стыдом, потому что жена приехала и сразу с порога начала орать, что не встретил. И потом он уже вваливается в гостиную с мороза счастливый, красный, как солнечный закатный пар, и хохочет, и она хохочет, красивая, как и была, самая лучшая, это понятно, и мы тоже хохочем вместе с ней, и я обнимаю Заю за плечо и думаю: как хорошо, что мы все вместе, и мальчик Нутик подкладывает веточки в камин, хотя зачем веточки, откуда веточки. А вот лучше не думать, что у нас тут откуда. У нас отличная компания, но кто знал, что Резничев в такое вляпается.
Вечером мы, как обычно, как всегда, как эти десять и двадцать чертовых лет назад, устраиваем дикие игры с глинтвейном – вот Илья бежит за градусником, чтобы проверить его температуру (глинтвейн должен быть ровно 80 градусов, как хороший зеленый чай, назидательно говорит Катя, после чего Илья срывается вверх по лестнице на второй этаж), через мгновение с криком: «Бляяя!» хватает дымящуюся десятилитровую кастрюлю и выбегает из дома босиком на мороз. Возвращается уже с пустой кастрюлей, из которой идет душистый пар.
– Это был ртутный градусник, – кисло уточняет Катя. – Я его для Ильи и взяла, он немного еще бронхитный был, когда мы выезжали.
Около крыльца наутро мы находим огромную глинтвейновую яму, обрамленную сахарными краями кровавого, рубинового, закатного снега, и мы с Заей отламываем по куску этого ароматного крошева и сосем его, хихикая, и мальчик Нутик бьет нас по ладоням и кричит:
– Дуры! Дуры вы обе! Дуры дурацкие, там ртуть же! Ртуть!
Мы с Заей падаем в снег, и я целую ее в ртуть и в ртуть, и у меня тут же начинает трещать голова, как будто ее окунули в прорубь где-то в другой реальности, отдельно от меня.
Мальчик мгновенно становится взрослым и брезгливым Пафнутием, засовывает в рот заскорузлую льдистую варежку и делает вид, что его рвет прямо в нашу ночную рубиновую яму, колодезь нереализованных желаний, исполненный ртути, счастья, аниса и кардамона. Теперь никто никогда не узнает, есть ли у него температура.
– С мертвой женой целоваться – это нормально, – хихикаю я. – А тут, значит, простите, нас тошнит.
– Подросткам гораздо ближе смерть, чем любовь, – бормочет Зая, вытряхивая льдинки из шапки. – Я в 13 тоже такая была – писала стихи про то, как я встречаю, скажем, на кладбище мертвеца, одиноконького, и начинаю с ним целоваться, гулять среди могил, держать его за истлевшую руку. Ну, то есть для подростка это все нормально: мертвая невеста, тили-тили-тесто. Живого, физического секса с другими людьми они смертельно боятся. Но я, кажется, его до сих пор сама тоже боюсь. Другие люди, буээ.
Мы все свои, и наш дом полная чаша, мы играем в нарды и маджонг, Катя заваривает зеленый чай вместо глинтвейна, эмигрантская сволочь и беженец позора Коля-Николай из Пенсильвании запивает зеленый чай водкой из фарфоровой чашечки с цветочками, Илья массирует Кате ногу и говорит, что второй ноги у Кати нет, она фантомная; Резничев с женой затевают игру в «Крокодила» и загадывают Нутику показать осколочное таинство кристаллической безвозвратности, и я сразу вспоминаю, как еще за год до того, как Катя забеременела этим маленьким гомофобом, горелые и пузырчатые, мы играли в «Крокодила» на пустынном пляже Бугаза, когда Саша загадал мне «латиноамериканских энциклопедистов, экспедирующих из эквадора партию филигранных клише», которых я показывала, кажется, всего лишь часа два, так мы хорошо тогда друг друга понимали.
Сейчас понимаем плохо: все отгадали безвозвратность, а остальное – нет. Видимо, у Кати получился ребенок, который может идеально показать безвозвратность, а все остальное показать не может.
Коля ржет. Коля вообще со всего ржет, потому что родина кажется ему нелепой и седой, тесной, как женский замшевый сапог, который мгновенно летит через всю гостиную прямо в кучерявую лысеющую Колину голову. Вдруг эта самая Колина голова светлеет и лучезарно предлагает поиграть в «сифу», и вот сапог уже ответно летит в голову Илье, сшибая по дороге какую-то вазочку, и мальчик Пафнутий истошно кричит: «Что такое сифа? Что такое сифа?» Безвозвратность, дорогое наше дитя, ты умеешь, а сифу не помнишь.
Никто ничего не помнит.
– Мы в школе играли в «сифу» тряпкой для доски, – весело говорит мертвая жена Резничева. Таня больно и со значением щиплет меня за плечо, и Зая смотрит на нее каким-то капризным, детским взглядом, и я глажу Заю по затылку и запускаю руки под ее свитер, чтобы убедиться, что она здесь, что она никуда не исчезнет, а то все уже, кажется, исчезли, вот, например, куда делся Танин немецкий муж?
– Ему просто скучно тут с нами, – объясняла Таня каждый вечер. – Он сидит наверху у себя и решает какие-то бизнес-вопросы по «скайпу».
Сапожная сифа прилетает нам с Заей, мы закрываемся голенищем и целуемся, и вокруг пахнет кардамоном, снегом и пылью (это потому что сапог, понимаю я), и я счастлива настолько, что, кажется, не может быть человек так счастлив, вот только этот чертов Резничев все портит своей историей взаимоотношения с безвозвратностью, и его кукла-жена, красивая, как всегда, красивая, как тогда, когда он познакомился с ней в каком-то дальнем поезде и потом притащил ее в нашу компанию, тонкую и острую, как скульптура из лезвий, красивую, как в гробу, тем светлым мягким летом, полным ватных озерных туманов, птичьего рассветного свиста и комариного траурного хорала вокруг опухших дачных ног.
Мы тихонько обсуждаем это с Таней, выбегая на крыльцо покурить, – отличный был отпуск, томно говорит она, вот уж лучше бы кто-то в номере повесился, например Петер, так достал уже, что я даже иногда с надеждой открываю дверь, особенно если он весь вечер не спускается к нам, – ну, может быть, уже? Но нет, сидит, живой, какие-то ячейки заполняет.
– Зато он счастливый какой, видела? – говорю я, рассматривая мглистый черносливовый дым, повисший вокруг моих пальцев, – Резничев. Раньше он мрачный вот какой был. Хорошо еще, что не женился второй раз, любовницы, может, и были какие-то, кто знает.
– Выходит, он ради этих трех дней семь лет не женился? – пожимает плечами Таня (с нее чуть не сваливается белая карнавальная шуба Ильи, которую она одолжила у тьмы сеней). – Глупости какие-то. Конечно, да, он ее любил очень. Я помню. Но это того не стоит, по-моему. Лучше бы начал новую жизнь, может, тогда она и не приехала бы и не испортила нам ничего, отпуск бы не испортила, не лезла бы.
Жена Резничева ничего вроде бы не портит: моет посуду за всех, готовит завтрак, рассказывает немного устаревшие анекдоты, учит пьяненького Илью танцевать танго и болтает с Петером на чудовищном немецком (надо же, может, языковые курсы там посещала, хмыкаем мы с Таней). Но мы осознаем, что все безнадежно испорчено: все будто становятся друг другу чуть-чуть чужими, как будто эти семь лет небытия, поместившиеся в небольшой дорожный чемодан, проступают на наших лицах шероховатостями, потертостями и немыслимыми гримасами неискренности – вот уже моя сальная шутка про узника бесчестия Николая из Пенсильвании вызывает у него приступ неожиданно искренней тошноты, вот Катя и Илья о чем-то негромко переругиваются около камина, вырывая друг у друга из рук скомканную бумажку с чеком, вот в маленьком ресторанчике «Волна» мы не можем разобраться со счетом и нам вечно не хватает пятидесяти, где пятьдесят, кто не доложил пятьдесят, и кто-то смеется, вспоминая тот давний случай в Одессе, но этот смех повисает в воздухе, как отломанная сосулька – сейчас время снова запустят и она разобьется на фальшивые льдинки, но она не разбивается никогда, и над нами вскоре повисает, как в кино, целый ледник, замогильный и беспощадный.