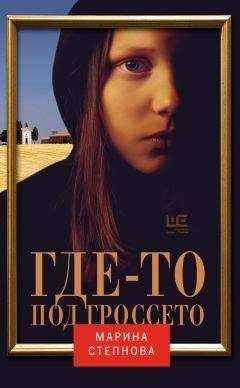Ознакомительная версия.
Но эту коробку Огарев купил сам. «Птичье молоко». Немыслимая мечта каждого советского школьника. Поспелова всплеснула руками, как маленькая. Просияла. Спасибо, спасибо огромное. Самый лучший в мире торт. Я в детстве мечтала, что, когда вырасту, закажу в «Праге» настоящее «Птичье молоко», целый килограмм, и съем его весь – целиком. Вы москвичка, значит? Почти. Из Красногорска. Родителям там квартиру дали – ну вот и… А так они оба в Москве родились. И мама, и папа. Огарев слушал из вежливости – уходить было еще рано, и потом, черт, что-то же еще нужно было… А, да.
Вы извините, что я вас тогда не послушался. С дедом этим сутяжным. Ну, с шизофреником. Ничего страшного. Все ведь обошлось. Да, обошлось. Она смотрела снизу, из-за стойки, чуть прищурясь, словно на солнце. С восхищением, неприятно настойчивым. Словно толкала. На эшафот, на трибуну. На подвиг. Вот теперь можно было смело уходить. Пора. Ну, до свидания, Анна… Черт, отчества не помню совершенно. Огарев подвис в воздухе, не зная, на что опереться, как сорвавшийся с трапеции акробат. Не страшно, потому что страховка. Но все равно неприятно. Николаевна, подсказала она. Но лучше не надо по отчеству. Мы же вместе работаем. Хорошо, покладисто согласился Огарев, торопясь отделаться наконец. Сколько уже можно? Еще раз спасибо и до свидания, Анна.
Антошка, еще раз подсказала она, точно поддерживала Огарева под локоть, переводя через улицу. Подталкивала на самом деле, а не поддерживала. Все время толкала. Туда, куда надо ей самой.
Что? – не понял Огарев.
Меня близкие так зовут. Не Анна, а Антошка.
Огарев улыбнулся – вежливо, безразлично, словно отодвинул Поспелову в сторону. Пресекать панибратство одним взглядом он научился еще медбратом. Скучающие сочные мамашки, медсестры, не знающие, с кем скоротать дежурную ночку. Еще не хватало. Он не снизошел даже до повторного «до свидания». Просто кивнул и пошел, чувствуя спиной ее обожающий взгляд.
Неприятная все-таки. Да, неприятная.
Антошка! – вообразила же себе.
Ни разу он ее потом так не назвал. Ни разу. Как она ни просила.
Очень долго Антошка думала, что так и надо. Так и должно быть.
Ребенок, она воспринимала все, что с ней происходило, как должное. Как единственно возможную норму. Это мой мир. Моя среда обитания. Играть и жить можно где угодно. Детские рисунки из терезинского гетто. Гроссмановский котенок, родившийся в воронке, никудышный. Ни о чем не просил, ни на что не жаловался, считал, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле. Жизнь и судьба. Антошка тоже думала, что все видят то же самое, что и она. Что это нормально. По-другому просто не бывает.
Вот женщина с авоськой идет по улице. Авоська, какое смешное слово, а-вось-ка. Прозрачное, сетчатое. Женщина поймала в свои сети картошку и кефир. Тятя, тятя, наши сети. Картошка крупная, грязная. На кефирной бутылке блестящая беретка из фольги. Зеленая. Все обычное, только в женщине что-то не так, Антошка это видит. Даже не видит – знает. Женщина не такая, как все. Объяснить это невозможно – по крайней мере Антошка не умеет. Пока не умеет. Даже сама себе. Женщина хорошо одета – лакированные туфли, светлый плащ, сзади вместо хлястика (еще одно смешное слово – хлястик) – бант на пуговице. Бантик. Бантик Антошке нравится. Кефир ей тоже нравится, но простокваша еще лучше. Фольга на простокваше розовая, холодная даже на вид. Вот бы лизнуть. Антошка так и делает – лижет, и язык ее, тоже розовый, холодит. Простокваша лежит в чашке глыбками, и, если ее посахарить, она начнет медленно оседать и таять, ноздреватая, как сугроб после оттепели. Значит, скоро весна.
Антошка знает все времена года. Она уже большая. Закончится эта весна, потом будет лето, а осенью Антошка пойдет в школу. Она не отрывает глаз от женщины, не может оторвать. На улице много людей, все куда-то торопятся, но Антошка видит только светлый плащ, хлястик-бантик, кефир и блестящие черные туфли, в которых плывут, отражаясь, улица и туча. Женщина – не такая, как все. Не такая. Чуть-чуть не так двигается. Держит голову. Как будто все вокруг настоящие, а она – нет. Или наоборот. Все нарисованные, и только эта женщина выпирает, словно норовит вырваться из раскраски. Антошке не страшно, просто немножко неприятно. Она бы рада не смотреть. Но не может.
Женщина чувствует ее взгляд и оборачивается. Целую секунду они смотрят в глаза друг другу – Антошка и женщина. Целую секунду они друг друга видят. Женщина знает, что Антошка знает. Антошка – тоже. Глаза у женщины абсолютно черные – совсем. Нет ни белков, ни зрачков – ничего. Это неправда, конечно, но Антошка видит именно так. Женщина смотрит тяжело, откуда-то издалека, из непроницаемой глубины, которой Антошка пока не знает названия. Антошка слышит тихий зов, еле уловимый звук, которого тоже не понимает. Ей кажется, что женщина зовет на помощь. Молча. Женщине плохо. Это плохо медленно поднимается, колышется у Антошкиных колен, потом у груди, подбирается к горлу. Темное. Густое. Женщина все стоит, потом вдруг делает шаг к Антошке, как будто между ними – нитка, за которую тянут, тянут, тянут, тоже неизвестно откуда. Неведомо кто.
Антошка держит за лапу игрушечного зайца и знает, что он не поможет. Никто не поможет. Только она сама. Женщина делает еще один медленный шаг. Антошка, марш домой! – кричит из окна сердитая мама, и морок немедленно отступает. Женщина равнодушно отворачивается, перехватывает авоську, идет дальше, улица и туча плывут в ее туфлях, она уносит их с собой. Антошка еще секунду смотрит ей вслед, голова кружится, кружится в животе, черное отступает, тянется неохотно. Такое липкое. Густое. Женщину невозможно жалко. Она не такая, как все. Совсем одна. Как будто с другой планеты. Это очень плохо, когда ты с другой планеты – и совсем один.
Антошка! – мама кричит так, как будто ее режут. Это папа так говорит – что ты орешь, как будто тебя режут. Хотя Антошка, когда порезала палец, как раз совсем не орала. Хотя было очень больно. Лезвие тихо хрустнуло по кости, скрипнуло даже. Антошка слышала. Черный хлеб. Розовая колбаса. Желтое масло. Даже много лет спустя она будет ломать хлеб. Не резать. Ломать. И никаких бутербродов. Слишком больно. Да неужели вы не замечаете? Слишком больно!
Антошка идет к подъезду, подпинывая камешек. Тыц-тыц. Заяц тянет по асфальту неживую лапу. Антошка слышит и видит то, что недоступно другим. Но пока не знает об этом. Она думает, что женщину видят все. Что всем ее жалко. У подъездной двери Антошка оборачивается еще раз. Женщины нет. Черного нет. Ушло. Отступило. Улица заполнена землянами, дома остывает в тарелке куриный суп с вермишелью и фрикадельками, из-за вареного лука с мамой опять будет склока. Антошка – обычный нормальный ребенок. Смышленый детеныш шести с небольшим лет.
Безумие. Вот что она видит. Человеческое безумие. Антошка – королева сумасшедших. Детонатор. Проводник. От слова – «провод». Красный, белый, зеленый. Прыгающие на черном экране цифры. Обратный отсчет. Десять секунд до взрыва. Восемь. Семь. Пять. От того, как соединишь проводки, зависит судьба целого мира. Антошка замирает перед дверным звонком, в одной руке красный проводок, в другой – белый. В подъезде воняет кошками, мочой, липкими тополиными почками, детством. Когда-нибудь Антошка вырастет. Когда-нибудь станет врачом. Это так же просто и понятно, как ключ под половиком, который она чувствует подошвой. Ключ есть всегда. Даже искать не нужно. Просто представь себе, куда бы сам его спрятал. Правильно. Вот тут. Наклонись – и бери.
Дверь распахивается, мама стоит на пороге – сердитая. Даже волосы у нее злятся. Я чуть горло себе не сорвала! Два раза уже обед разогреваю! А ты торчишь на улице битый час без малейшего толка! Глаза у мамы светлые-светлые. Даже когда она кричит. Мама совершенно нормальна. Папа тоже. Антошка вдруг бросается вперед, обнимает мягкое, теплое, родное, утыкается головой. Фартук, пропахший стиркой и кухней. Мама. Мама! Ты заболела, что ли? Дай лоб пощупаю. Горлышко не саднит? Антошка крутит головой – нет, она совершенно здорова. Как мама. Как папа. Она тоже с этой планеты. Все они.
Но в руках у Антошки разноцветный клубок проводов, которые ведут в никуда.
Антошка всегда любила лечить – с самого детства.
Это была не обычная малышовая возня с понарошку заболевшими игрушками. Нет, из любой кукольной груды она безошибочно выуживала самое несчастное существо – не хрестоматийного заласканного мишку с оторванной лапой, а действительного бедного, никому не нужного, жалкого уродца. Безобразного, едва узнаваемого зайца, пластмассового пустотелого пупса с неуловимым фабричным изъяном или оскальпированную куклу, навеки вывернувшую внутрь себя остановившиеся стеклянные глаза. Идеальная, кстати, модель для иллюстрации шизофрении. Став Анной Николаевной, Антошка убедилась в этом не один раз.
Определив самого безнадежного пациента, Антошка спокойно, деловито, без малейшей жалости принималась за лечение, тоже совсем не детское. Вместо того чтобы перевязывать, ощупывать, спрашивать, что у нас болит, отрезать воображаемый аппендикс или как-то еще подражать взрослым, настоящим врачам, она просто крепко прижимала увечную игрушку к себе и несколько минут сидела, очень серьезная, очень ответственная, кажется, даже почти не дышала.
Ознакомительная версия.