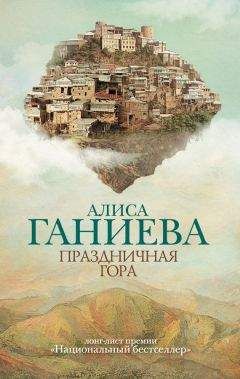Махмуд Тагирович достал из брючного кармана слипшийся носовой платок и смачно высморкался.
Табачный дым, навоз и грубо
Тебя толкнувший мальчуган,
Азартных глаз его капкан,
Шальных, хохочущих друзей
Толпа, что не дает пройти,
Твои ужимки и прыжки,
Руки блужданье меж камней
И камешек, что поднят был,
Который вскользь, но угодил
В его, подобную яйцу,
Главу, и квохчущие тетки,
Волос, скользящих по лицу,
Пряды и пыльные колготки.
И ты, бежавшая к садам,
К тени, к прополотым грядам,
К охрипшим петушиным крикам
И к солнца тающего бликам
На улья дровяной стене.
И чей-то «Ччит!»{Брысь (авар.).}, и вслед за ним
Сам кот – сердитый пилигрим,
Лошак с соломой на спине…
И где бездетный сей шагал,
Баран свой бисер рассыпал.
Как часто утром ты топтала
Цемент отцовского крыльца,
Как часто ухом уловляла
Шумы кипучего сельца,
Глядела праздными глазами
На луч, мелькнувший за горами,
И вяло ключевой водой
Плевался в пыль бурутIи{Кувшин (авар.).} твой,
Метла кололась и юлила,
И смутно чудились шлепки
И материнские щипки,
И вниз ты голову клонила,
Боясь услышать невзначай:
«Азбар бакIарарби, ясай?»{Прибрала ли ты двор, девка?}
Далее героиня бежит на годекан в поисках своего отца и в конце концов находит его. (Махмуд Тагирович перелистнул несколько страниц.)
Но вот та резкая морщина,
Те запыленные шнурки,
И взор, и гордая штанина,
И злого профиля бугры,
И фаса колкая щетина,
И рта бескровная лощина,
И косм редеющий венец, —
И найден, найден твой отец,
Уж растревоженный речами
О покушеньях, о дворцах,
О зле, колхозах и средствах.
И жали жаркими плечами
Мужчины, и ломали сук,
Роняя “Malboro” из рук.
КамАЗы пыльные гудели,
Как зло гудит веретено
В плену старушечьей кудели,
Когда все слепо и темно.
Меж фар их, каплющих бензином,
В гудке, навязчивом и длинном,
Сотрясся воздух и замолк,
Как трясся временами волк
В лесах, мрачнеющих на склонах.
И «Волги», джипы показались,
И резво люди заметались
В их ярко вылощенных лонах.
И стала прибывшая знать
Сельчанам руки пожимать.
Махмуда Тагировича слегка смущало, что детство его жены, протекавшее в шестидесятых, неожиданно обросло в его стихах постперестроечными деталями. Но он быстро отбросил сомнения, решив списать несоответствия на поэтический прием. Итак, в село для агитации приезжает кандидат в депутаты. Такое еще бывало в девяностых. Описание политических споров не особенно удалось ему, зато он особенно гордился неожиданной концовкой строфы: «Но рыже-чалая корова, Кусок нескромный оброня, прошла, копытцем семеня». Далее Махмуд Тагирович подпустил немного лирики.
Умчалась шумная когорта,
И долго возбужденный дед
Ошеломленному эскорту
Кричал напутствия вослед.
А ты отца с собой тянула
К тропам, к горам, по следу мула.
Как ты любила те прогулки,
Села коричневые улки,
Домов причудливую кладь,
На них уснувшие зигзаги,
И арок темень, и овраги,
И облаков седую рать,
И малолетнего бычка
У материнского соска.
В садах стучали уж камнями,
Сбирая в улей блудный рой,
И меж цветными петухами
Мелькнул, блеснул, завелся бой.
И пал окровавленный враг,
К увеселению зевак.
Вдали тропинки извивались,
По ним горянки поднимались
Просить у неба урожай.
Пока языческим рефреном
Они кричали вожделенно,
Зовя богов и ворожа,
Мужчины соблюдали «дин»{Вера, религия (араб.).}.
Твердили хором: «Бог един».
Чтение Махмуда Тагировича прервали отдаленные выстрелы и вой автомобильных сигнализаций. Он выбрался из кустов, исцарапав себе руки, и выглянул на дорогу. За электрическим столбом прятались два школьника с рюкзаками, а прямо на проезжей части валялся мертвый в полицейской форме. На улице быстро собирался народ. Из автомобилей, доставая телефоны, стали выходить любопытствующие, и уже через минуту образовалась длинная пробка.
Поэтический настрой был сбит. Махмуд Тагирович засунул тетрадь в портфель, пощупал на голове отсутствующую шляпу и пошагал прочь от собравшихся. Он пытался стереть из памяти сцену с убитым полицейским и настроиться на дискуссию с Пахриманом, своим приятелем-лакцем.
Обычно они собирались у Пахримана каждый четверг на обед. Ели курзе с конским щавелем или чуду с творогом, играли в шеш-беш и яростно спорили. В прошлый раз Пахриман доказывал, что именно лакский Сурхай-хан разбил Надиршаха в 1741 году, а Махмуд Тагирович горячился, цитировал аварскую эпическую песню и напирал на то, что Сурхай-хан был турецким агентом, а жена его содержалась у Надиршаха в гареме. Дискуссия почти переросла в ссору, но тут жена Пахримана внесла кизлярскую мадеру, и вечер кончился мирно.
Внезапно Махмуд Тагирович вспомнил, что до четверга еще не скоро, и повернул к дому. Дом его, увитый виноградом, выходил на одну из главных улиц. Поднявшись по старым деревянным лестничным маршам, Махмуд Тагирович открыл дверь собственным ключом с болтающимся брелоком в виде двух горных отрогов и на пороге с испугом обнаружил, что жена его еще дома.
– Махмуд! – закричала она из комнаты.
– Да, Фарида, – отозвался он, снова щупая макушку.
– Махмуд, – жалобно повторила жена, выходя из залы и закутываясь в невесомую золотистую шаль, – у Марата опять проблемы в университете. Ты там работаешь, и ничего не можешь для внука сделать!
– Я что могу… – начал Махмуд Тагирович.
– Что ты можешь? – воздела жена руки кверху. – Аллах видит, что ты ни сыну своему не помогал, ни внукам! Абдуллаев ты видел, как подсуетился, куда он детей устроил? А Омаров? У его жены по пять килограммов золота на каждой руке!
Жена без сил опустилась на кресло и прикрыла лицо руками.
– Фарида… – снова начал Махмуд Тагирович.
– А твой брат, – всколыхнулась та, – младше тебя на десять лет, не имеет твоего образования, а скоро хозяином завода станет. Ты у него бы поучился.
– У меня хорошая работа, – возмутился наконец Махмуд Тагирович.
– Ты с нее что-нибудь поимел? Тебя там все за дурака считают, я прямо тебе скажу, – накинулась жена, – нормальные люди деньги делают, родственников устраивают. У тебя столько возможностей было, и я тебе чего только не советовала, ты разве меня слушал?
– Фарида, что ты начинаешь, что за ай-уй, – скривился Махмуд Тагирович.
– Я еще не начала, – привстала жена, грозя пальцем, – у меня еще много терпения. Что, опять к Пахриману пойдешь?
– Куда хочу, туда пойду, – обиженно засопел Махмуд Тагирович.
– Давай, развлекайся, пиши, пока жена работает, – сказала она, кивнув на его портфель и собирая сумку.
Воспользовавшись паузой, Махмуд Тагирович шмыгнул в свою комнату и там затаился, пока не хлопнула входная дверь.
Махмуд Тагирович любил напомнить внукам, что его дед, происходивший из ханской хунзахской семьи, ребенком чудом избежал смерти от рук имама Шамиля, находился в плену, был выкуплен и, пережив множество приключений и переездов, оказался в петербургском высшем обществе, даже нес караульную службу в личных монарших покоях. Дяди Махмуда Тагировича, а их было восемь, погибли в разных концах рушащейся империи и за ее пределами. Кто на полях Русско-японской, кто в Первую мировую, кто в Гражданскую от рук озлобленных большевиков, но все при царских боевых наградах.
Отца Махмуда Тагировича, как самого младшего, запрятали на дальний хунзахский хутор, откуда он отлучился лишь в тридцать первом году – на учебу в только что открывшийся Махачкалинский пединститут. Оттуда его, впрочем, вскоре выгнали как сына белого генерала.
Вернувшись на хутор, юноша переписывал Коран, занимался переводами, а затем неожиданно проникся красной романтикой и отгрохал на аварском поэму-покаяние, где рвал со своим несчастным прошлым.
В эстетских, пестрящих арабизмами строках новоявленный поэт расписывал несчастную долю простых хунзахцев, веками гнувших спину под игом коварных нуцал-ханов и их интриганок-жен. Вскользь упоминался и Хочбар из вольного Гидатля, унесший с собой в огонь малолетних ханских сынков.
Поэму оценили, она ходила по рукам, и отец Махмуда Тагировича был призван в Хунзах и назначен там школьным учителем, а спустя два года уже стал зятем главного колхозного агронома, потом директором школы, а потом, уже будучи ветераном Великой Отечественной, – и вовсе служащим Министерства образования в Махачкале. К стихам отец Махмуда Тагировича больше не возвращался.
Сам Махмуд Тагирович родился очень поздно, когда три его старшие сестры уже заканчивали школу. Рос в отдельной городской квартире, в которой постоянно гостили местные звезды и в том числе поэты в кирзовых сапогах и с пандурами. Мать быстро отцу наскучила, уступив место тайным кудесницам из номенклатурных кругов. Когда Махмуду Тагировичу было восемь, она умерла в Хунзахе загадочным образом после празднования пятидесятилетия ДАССР. Говорили, что наелась жирного мяса с хинкалом, обильно запила ледяной водой и скончалась от заворота кишок.