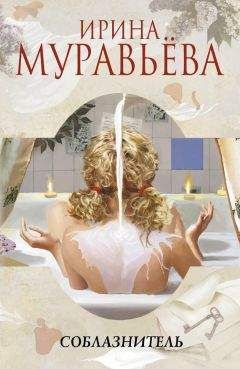Ознакомительная версия.
– Езжайте. Раз надо – так надо.
– Но мама-то ведь без тебя ни на шаг.
Теперь усмехнулась она. Точно так же.
– Поедет, поедет. Ты уговоришь.
– Послушай-ка, Верка, ведь что-то случилось.
Она посмотрела в упор:
– Ничего.
– Ну, это неправда. Опять соврала!
Переслени понизил голос до шепота и, перегнувшись своим небольшим и ладно скроенным телом через столик, спросил:
– А ты не беременна? Нет?
Она покраснела.
– С какой это стати?
– Бывает.
– Тебе это важно? – она засмеялась.
И он засмеялся. Их смех был похожим, глаза одинаковыми.
«Возьму вот и все расскажу!»
Не было ничего нелепее, чем все рассказать отцу, которого она видела не больше, чем пять-шесть раз в году и который съехал с их квартиры на «Спортивной», потому что ее появление на свет помешало ему. Отцу, которого Лина Борисовна не называет иначе, как «садист» и «мучитель», и от которого мама столько лет не находит в себе силы уйти. Она вдруг поняла маму: отец был таким же, как Андрей Андреич Бородин. Осенившая ее догадка казалась абсурдной, но женский инстинкт не подвел. Таких, как отец, никогда не бросают, бросают других, эти сами уходят, но их не пускают, за ними бегут, а если зима – увязают в снегу, и вслед им кричат, не стыдясь и надеясь.
– Нет, я не беременна, нет, не волнуйся, – сказала она. – Но ведь дело не в этом. Беременность – что? Ерунда! Аборт можно сделать.
– Э, нет! Не скажи! – он сморщился весь. – Как аборт? Это смерть. А я сколько раз сам был на волосок…
– Ты? На волосок? От аборта?
– Дурацкая шутка. От смерти.
Никогда они не разговаривали так странно и так пристально не всматривались друг в друга – как будто упала стена между ними.
– Но мне жить не хочется, папа. Мне плохо. И если я только решусь, я тогда…
Он побагровел, перегнулся и с силой тряхнул ее так, что она закачалась.
– Молчи и не смей! Доиграешься ты!
– Что значит «не смей»? Эта жизнь ведь – моя?
– Надеюсь, не только твоя.
– Чья тогда? Бабулина, может быть? Или твоя?
Он левой ладонью накрыл ее руку. Ладонь у него стала мокрой, горячей.
– Я думал об этом.
Она напряглась.
– Ну, папа? И что? Говори! Что молчишь?
– Ты знаешь, когда я пытался уйти…
– Да, знаю! Мне мама сказала, как ты…
– Три раза пытался. И кто-то меня всегда останавливал или спасал. А кто, я не знаю.
Она испугалась: отец ее был совсем не таким, каким раньше казался. И этот отец ей был, кажется, нужен. Нельзя было взять и его отпустить, нельзя, чтобы он ее снова забыл, нырнул в свою жизнь так, как будто они и не говорили с такой откровенностью!
Тогда она все рассказала ему. Про Бородина и про их поцелуи, про то, как он вдруг испугался старух, сказал ей, что ждать еще нужно два года, а ей отвратительна трусость и слабость… Потом рассказала про турка: как он все время кладет на порог им цветы и как он ей вдруг предложил «погулять»…
Она замолчала и вся покраснела.
– И что? Ты пошла с ним гулять? – У отца был странный, глухой и простуженный голос.
– Нет. Я с ним пошла к нему в комнату. И…
– И что? – Но отец не смотрел на нее, как будто бы Веры и не было рядом.
– И все. Ну, ты сам понимаешь, что «все».
Отец весь согнулся, как будто его ударили палкою и убежали.
Она разрыдалась.
– Я жить не хочу! Он так мне противен! Мне все так противно!
До сегодняшнего дня Переслени редко вспоминал о ней. Он существовал, вот и все. Писал иногда поострее других, но очень брезглив был и лезть на Олимп, где все давно схвачено, он не желал, просить не любил, был немного ленив, а может быть, даже и болен: тоска его все же мучила, как ни крути, и он пил лекарства, чтоб не тосковать и чтобы не лезли проклятые мысли. Жена обожала его, он привык и к Лариной ревности, и к красоте, поэтому часто себе позволял случайные связи, чтобы острота какой-то, пусть и небольшой, новизны его развлекла бы на день или два, но женщины были ему не нужны – никто, кроме Лары, а Лара его (он знал это!) будет терпеть до конца. У них была дочка. Она, как и он, любила красивые тряпки, духи. Когда были деньги, он ей покупал. Он брал ее изредка то на концерт, то просто в кино, то кормить лебедей. Она была копия Лары лицом, но он иногда узнавал в ней себя и этим гордился, как всякий отец. Любил он ее? Нет, наверное, нет. Вернее сказать, он не думал об этом.
Сейчас эта дочка рыдала, и он не знал, как помочь ей. Душа разрывалась. Найти, где живет этот турок, убить мерзавца, который ее осквернил? Не понял, что ей и пятнадцати нет, раздел, уложил, причинил эту боль! Учителя тоже хотелось убить. Он, может быть, даже опасней, чем турок.
Его серглазая дочка закрыла руками лицо, и кудрявую прядку засунула в рот, чтобы плакать потише. Хотелось вскочить, убежать, заглушить любым громким звуком ее этот плач. И, может быть, раньше он так бы и сделал. Когда это раньше? Когда не любил. Он даже не понял, как это случилось. Когда она вдруг проскользнула в него и он ощутил ее слезы внутри? Он был так свободен всегда ото всех. Одна только Лара. Но Лара не в счет, она ведь жена, часть его самого, она и взвалила его на себя, как хвороста воз, вот она пусть и тащит! А дочка сказала: «Я жить не хочу». Теперь он не сможет забыть этих слов.
Когда Вера призналась отцу, что ее всю переворачивает от отвращения при воспоминании о том, что произошло между нею и молодым рабочим, приехавшим обновить их нуждающийся в хорошем и добротном ремонте дом, она не преувеличила. Отвращение составляло бо́льшую часть ее нынешних ощущений, но зато если бы теперь Бородин опять начал говорить, что ничего нельзя, потому что она «девочка», она бы ему так ответила: «Да что вы? Какая я «девочка»?
И гордость ее бы восторжествовала. Пускай через кровь, через огненный стыд, но Вера ему отомстила бы. Учитель, однако, молчал. Она стала так редко появляться на уроках, что администрация обрывала Ларисе Генриховне телефон, угрожая отчислением и требуя медицинские справки. Лариса Генриховна, пользуясь связями мужа-драматурга, задаривала администрацию театральными билетами. Билеты они принимали, конечно, но вот телефон продолжал разрываться. При этом вокруг все шептались о том, как переменилась сама Переслени. Ее лихорадило всю, а глаза, утратив свою серебристость, вдруг стали туманными, пьяными, словно она случайно прошла мимо школьного зеркала и в нем не узнала себя. По этим глазам было очень понятно, что школа ей осточертела и что она и о вузе нисколько не думает. О чем она думает, бог ее знает. Наверное, все про любовь, но не так, как принято думать о ней чуткой школьнице, похожей на первый подснежник в лесу, на светлый ручей, отразивший березку, и даже на сок этой самой березки, поскольку любой, кому хоть один раз представился случай с такой чуткой школьницей где-нибудь поцеловаться, навек запомнил вкус девичьих губ и их влагу, которая выступила от волненья.
Новость, что учитель английской литературы Бородин переехал жить в Нагатино в однокомнатную квартиру, оставшуюся от родителей, выяснилась совершенно случайно: Миша Пышкин, плотный и кудрявый ученик Андрея Андреича, жил в соседнем подъезде и постоянно сталкивался с ним по дороге к метро. Вот так и узнали: от этого Пышкина.
– Да спит она, Верка, с Андреем Андреичем, – сказала развратная наглая Танька. – Уж вы мне поверьте: мой глаз-то наметанный.
Но Таньку всерьез принимать не привыкли, и многие просто назло ей решили, что Верка с учителем вовсе расстались. У Верки спросить не решались. И вдруг она позвала дуру Таньку домой и дома, блистая глазами, сказала, что переспала с одним турком, рабочим, которого видеть не может – тошнит.
– А что, это очень отвратно, а, Вер? – спросила ее простодушная Танька.
– Да, очень.
– А мне говорили – нормально.
– Наврали, не слушай, – сказала ей Вера.
– Так что же тогда все с ума посходили по этому сексу?
– Да где посходили?
– А мама моя?
– Ну, она притерпелась.
– Не знаю, не знаю, – задумалась Танька, – она как-то нашей соседке призналась, что больше недели без секса не может.
Вера покрутила пальцем у виска.
– Ты лучше другое скажи: как мне быть? Что с турком-то делать?
– Пошли, да и все.
– Его так легко не пошлешь. Куда ни пойду, он уже тут как тут. Стоит и вращает своими глазищами.
Танька посмотрела на запутавшуюся одноклассницу: Вера Переслени сидела с ногами на диване, запустив обе ладони глубоко в волосы, и с отчаянием глядела в одну точку.
«А правда красивая! Вот ведь везет! – без зависти всякой подумала Танька. – Везет же красивым! Вон, турка поймала».
– Послушай, отбей его, Танечка, а? – сказала несчастная Вера. – Ну что тебе стоит? Оденься красиво и сядь там, на лестнице. Я его знаю! Он тут же придет.
– Вер, ты что, ненормальная?
– Я очень нормальная! Танька, давай! Ведь ты его, Таня, наверное, полюбишь! Он сильный, хороший, уедешь с ним в Турцию, тебе же ведь хочется встретить кого-то! А тут само в руки плывет!
Ознакомительная версия.