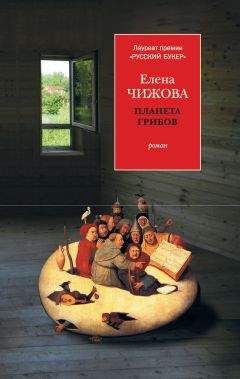Дойдя до березовой поляны, сворачивает и идет напрямик, чтобы выйти к дому, минуя соседские заборы. Противный запах бредет за ним. «При чем здесь черви! Личинки – совсем другое: особая форма жизни, не окончательная. Кажется, из них должно что-то вылупиться, какие-то насекомые…»
Прямо на тропинке, преграждая ему дорогу, стоит гриб. Он останавливается, смотрит недоверчиво: на этот раз, кажется, крепкий. Осторожно касается мыском ботинка. Ножка переламывается: на сломе все то же деятельное шевеление. «Не лес, а… смердящий труп. – Настроение вконец испорчено. – И еще этот запах. Чужой, неприятный. – Остановившись у кривой березы, он кладет руку на ствол. – Фу! Это ж я сам», – запах его пота, испарины, покрывшей тело.
«Вымыться. Срочно. Пока не вымоюсь, не смогу работать».
Можно нагреть на плитке, но хочется много воды: чтобы смыть испарину, которая схватилась как краска. Тончайшая пленка, облепившая тело, мешает двигаться свободно. Жить и дышать.
Он запирает за собой калитку. Не заходя в дом, прямиком направляется в подвал. Там оборудована ванная. Раньше казалась роскошью, во всяком случае, у соседей не было. Он помнит эту давнюю эпопею, своего рода семейное предание: старые городские районы переходили на центральное отопление. Отец нанял частника: с дровяной колонкой в трамвай не пустят. Вдвоем с водителем втащили на пятый этаж, пристроили на балконе. Там и стояла, кажется, лет пять. А может, и больше, пока ей не подобралась пара, старая ванна – тоже с помойки.
Подвальная дверь низкая – чтобы не расшибиться, надо нагнуть голову. Узкий коридорчик, за ним еще одна дверь. Кое-где штукатурка вспухла и отслоилась. Стены покрыты рыхлыми пятнами: видимо, грибок. «Надо отскрести. Или промазать?» – эти слова он произносит всякий раз, когда заходит, но потом забывает, выбрасывает из головы. Чугунная ванна тоже покрыта пятнами: на дне сбита эмаль.
Молотками, что ли, били? – мать пеняла прежним хозяевам, не сумевшим сберечь вещь.
В углу картонная коробка: старые газеты, бумага, обертки, пакеты – конечно, не из-под молока. Молочные пакеты не годятся для розжига. Он распахивает чугунную дверцу, пихает в топку мятую газету. Полешки, подходящие по размеру, сложены у стены. Сырая бумага занимается неохотно. Склонившись, он дует: словно животворящий бог, вдыхающий жизнь. Язычки бумажного пламени вскидываются. Он смотрит с надеждой, но пламя опадает, торопливо облизав кору: неудача, очередное поражение. У отца разгоралось с первого раза.
Жамкает пожелтевшие от времени газеты.
«Ну… Давай, давай», – заглядывая в узкую топку, подбадривая робкую стихию. Тощий огонек, привстав на цыпочки, обшаривает сухое полено – разведчик, высланный вперед: ныряет под деревянную преграду, ползет по-пластунски и, выбившись с той стороны, бросается грудью, будто маленький Александр Матросов, и так же мгновенно падает. Но подвиг – как и положено на войне – решает дело: язычки, пережидавшие в укрытии, поднимаются во весь рост и идут в атаку. Голое пламя, дикарь, вскакивает на деревяшку, топчет поверженного врага.
Он подкладывает еще одно полено. Разгибает спину, чувствуя себя отмщенным за грибное разочарование. В каком-то смысле все деревяшки – дети леса.
«Потому что слишком сухо. Совсем не грибной год…» – в юности специально вставал пораньше, до рассвета. Мимо дома шли грибники. Не эти, дневные. Настоящие грибники выходят затемно. Один за одним они появлялись из-за ручья, поднимались вверх по тропинке. В предрассветных сумерках он не мог разглядеть лиц. Их лица скрывали капюшоны. Он стоял, притаившись на крыльце. Излишняя предосторожность. Они шли мимо, не обращая никакого внимания: тени, одетые в сапоги и жесткие непромокаемые плащи. В их повадке было что-то звериное: мягкая поступь, сутулые плечи, собранный взгляд. Не шарили глазами, не отвлекались на сыроежки. Их грибы начинались за дальним болотом. Свернув с тропинки, тени грибников пересекали кромку леса и в это же мгновение исчезали. Будто погружались в иную среду, в другое изменение. Для грибников, которым втайне завидовал, не бывает негрибных лет. Всегда возвращались с полными коробами: за болотом, где он никогда не был, на десять нечистых грибов всегда найдется хотя бы один чистый.
Он ведет рукой по шершавому боку колонки: когда поленья прогорят, надо вложить еще одну порцию. С двух закладок колонка разогреется до половины. Хватит, чтобы помыться одному.
Выйдя из подвала, он садится на скамейку. Складывает руки, пытаясь представить себе заболотное пространство, где царят грибы: «Я тоже мог… Перебраться через болото. Увидеть своими глазами… Узнать…»
Дворовая скамейка обита куском линолеума. За долгие зимы, которые он не может себе представить, края подгнили и задрались. Он сидит, стараясь не шевелиться, опустив глаза, будто хочет сосредоточиться на чем-то очень важном: «Много грибов – к войне… Нет, не то… Грибы – особые существа: не растения, не животные… В зависимости от внешнего вида бывают мужские и женские…» – грибы, плывущие перед глазами, шевелятся и переглядываются, словно готовятся к военным действиям. Одни – выпуклые, с отчетливо выраженной ножкой, шляпки похожи на колпачок. Другие – вогнутые, с мягкой складкой, которая идет поперек… Внизу живота теплеет и набухает. Он сует руку в карман. Рука твердеет. Он чувствует растущее возбуждение… Грибная складка уже раскрывается наружу: внутри что-то шевелится… Личинки. Вздрогнув, он отдергивает руку: вместо твердой плоти – белая деятельная жизнь…
Озирается испуганно: а вдруг кто-нибудь проходил мимо?.. Слава богу, кажется, никого. Едва заметно прихрамывая (пусть думают: свело ногу, мало ли, растирал…) – идет в подвал, хотя отлично знает: проверять рано.
В топке бушует огонь. Языки пламени охаживают головешки, вылизывают самозабвенно. Решительно оглядев поленницу, выбирает самое толстое и длинное. Берется обеими руками, примериваясь к узкой дверце: «Сейчас… Как-нибудь… – наваливается всей тяжестью. – Втиснется… Ох!» – усилие, которое он предпринял, отдается в спине.
Переждав боль, вступившую в поясницу, выходит на улицу.
Свет (если не знать точного времени, не то предвечерний, не то предутренний), заливает окрестности: деревья, кусты, траву. Где-то за ручьем грибники собираются в дорогу: проверяют свои короба, осматривают сапоги, плащи с широкими капюшонами. Через несколько часов они пройдут мимо его дома, чтобы нырнуть в лес. На свой страх и риск перебраться через болото…
– Именно. На свой страх и риск… – обернувшись к лесу, он произносит громко. Его никто не услышит – там, в лесу, никого. – Вот интересно, грибниками становятся или рождаются?
Стоял, чувствуя, как оно подступает к горлу: стеснение духа, горечь, печаль, тоска – запоздалая, бессмысленная, тягучая, безнадежная, которую невозможно выразить ни на одном языке, кроме родного – на котором разговаривали с Марленом… Бесконечная и непроходимая – как это проклятое болото. Бешеная, затаенная, смертная – прорастающая железным ростком: из глубины, из самого сердца. «Я всегда боялся. А Марлен – нет. Уж он, если б захотел, перевел ту книгу. С ним редактор не посмел бы так разговаривать. Навязывать работу, давать пустые обещания».
В той книге речь шла об альбигойцах. Надеясь приступить к работе, он внимательно изучил вопрос. Церковь Любви, тайный орден. Адепты не признавали страданий Христа, а кроме того, отрицали Страшный Суд и существование ада и рая. Поощряли освобождение от тела, в частности, через самоубийство. Католическая церковь объявила их еретиками, а в 1209 году объявила открытую войну. Военные действия вошли в историю как крестовые походы против альбигойцев. Учитывая мощь папского престола, не приходится удивляться тому, что в конце концов они были разгромлены. Папские войска учинили кровавую резню. Те, кто остался в живых, ушли в горы, но это не спасло. Их последний оплот пал в 1244 году. Спустя несколько дней 257 человек – жалкий остаток – взошли на костер. Однако еще в XX веке многие верили, что кое-кто все-таки спасся. Уцелевшие стали хранителями тайных знаний. Предание гласило: придет время, и эти тайные знания откроют человечеству новые грани Добра.
«Перевести, явиться к редактору, положить на стол?..» Он представил себе, как главный редактор листает рукопись, то и дело натыкаясь на подробности, от которых кому угодно станет не по себе. Чего стоит вопрос непосредственного исполнителя, заданный папскому посланнику, руководившему операцией: как отличить благонравного обывателя от еретика? Тут одним чихом не обойдешься. Ему показалось, он видит редакторскую поднятую бровь:
– Ну, и что же ответил папский посланник?
Он опустил голову и ответил:
– Убивайте всех, бог узнает своих.
Редактор глубоко задышал и откашлялся:
– Интересно… – Словно наяву он расслышал шуршание туалетной бумаги. – И как вы это представляете? Нет, нет и нет. Еще неизвестно, куда повернется. Решат, что мы на что-то там намекаем. Хуже того, издеваемся.