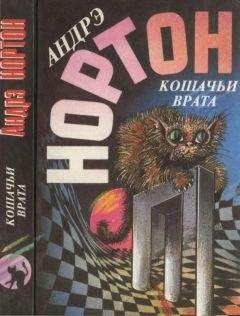– Может, приедешь? – спросил он.
– Не могу, надо маме помочь, – отказалась я. – Увидимся во вторник, потерпи. Ты, главное, паспорт не забудь. Иначе в самолет не пустят.
– Не забуду.
– Достань прямо сейчас и положи в прихожей на видном месте.
– Хорошо. Может, все-таки приедешь?
– До вторника, милый, – сказала я и повесила трубку.
Меньше всего мне хотелось сейчас ехать в его квартиру, где каждая мелочь пахла крашеной гиеной. Никакой радости, только страх, что поймают на месте преступления. С этой заразы еще станется внезапно нагрянуть с проверкой… Про экзамен Лоська даже не спросил. Видимо, он даже вообразить не мог, что у меня могут возникнуть с этим какие-то проблемы.
А вечером я пришла к маме в гостиную, и мы залегли на диване перед телевизором, как в лучшие времена. Над покрытым толстой вязаной скатертью столом светился приглушенным оранжевым светом старый абажур с кистями. Сейчас он выглядел просто большим, а когда-то казался мне огромным. Наверно, и маме тоже. Сколько ему лет – пятьдесят? Пятьдесят, не меньше. Сколько лет, сколько шрамов… Мама долго гладила меня по спине, прежде чем задать вопрос, который, как видно, мучил ее достаточно давно.
– У тебя что-то случилось, Сашенька?
– Все в порядке, мамуля. Ничего такого, с чем нельзя справиться. Просто устала. Сессия, Костя… все как-то сразу навалилось.
– Но это ведь кончилось, правда? У тебя ведь вчера был последний экзамен, так?
– Так. Все кончилось. Не волнуйся.
Мама выдержала паузу, знаменуя переход к следующему пункту повестки дня.
– Значит, теперь в Палангу? Но я что-то не помню, чтобы ты брала деньги выкупить путевку…
– Ах, да, я ведь тебе еще не сказала, – проговорила я, пряча лицо у нее на плече. – Путевка сорвалась.
– Как сорвалась?!
– Очень просто. Знаешь ведь, как там у них в этих профкомах: объявился кто-то блатной – и всё, привет морскому ветру.
– Но как же теперь…
– Все уже устроилось, мамочка. Я еду на Кавказ с Лоськиным интеротрядом. У них там как раз освободилось место.
Мама отодвинулась, чтобы получить возможность взять меня за плечи и встряхнуть.
– Так, Александра. Ты можешь мне толком объяснить, что происходит? Почему я узнаю о таких вещах в последнюю минуту? Когда вы уезжаете?
– Самолет утром во вторник.
– Господи, самолет! Во вторник! – охнула мама. – И ты сообщаешь мне об этом вечером в субботу! Саша! А если бы я не спросила?
– Ну, мамуля, мамулечка… – замурлыкала я, беря проверенный многими испытаниями тон. – Я и сама узнала только вчера после экзамена. Потом сразу заснула. А сегодня с утра мы с тобой обе бегали туда-сюда, не поговорить. Вот сейчас только и время, я и рассказываю. Можно сказать, сразу, при первой возможности.
– Ах, Сашка, Сашка… – моя мама просто не умела долго сердиться. – Ну как так можно?
– А что такое? Ты ведь сама говорила: «Зачем тебе эта холодная Паланга? Ехала бы лучше с Костей на Кавказ, там солнце, там фрукты…» Ведь говорила?
– Ну, говорила…
– Ну вот! – констатировала я. – Следовательно, я всего лишь исполнила родительский наказ. Как истинно послушная дочь.
Мама рассмеялась и снова привлекла меня к себе.
– Да уж, истинно послушная… Ах, Сашка, Сашка…
Какое-то время мы просто сидели так и молчали, радуясь субботнему вечеру.
– Мамуля, – сказала я. – Я тут с Бимой советовалась насчет ожогов…
– Каких ожогов? – всполошилась она.
– Да нет, чисто теоретически. Ты ведь как-то говорила, что позор, как ожог – долго жжет, а потом шрам остается…
– Ну?
– Так Бима с тобой не согласна. Шрамы, мол, всего лишь часть жизни – что от позора, что от геройства, все равно.
Мама пожала плечами.
– Наверно, Бима права. Если уже есть шрам, значит, рана зажила. Проблема, когда рана остается открытой. Так тоже бывает, девочка.
– Бывает?
– Бывает… – мама подавила вздох.
– И у тебя было?
Она не ответила.
– Мам, ну что ты молчишь? И у тебя было?
– Было и есть, – тихо проговорила она с такой интонацией, будто отвечала не мне, а самой себе. – Целых две. Первая – когда уводили отца. Мне тогда было пять лет. Конечно, я ничего не понимала, но дети ведь оценивают происходящее по реакции взрослых. А это самая безошибочная оценка. Я стояла в прихожей. Там все было почти так же, как сейчас. Комод, вешалка. Я стояла у входа в кухню, прямо у дверного косяка, стояла и ревела, потому что чувствовала их страх, их отчаяние. Папа был уже в пальто. Он наклонился ко мне и сказал: «Все будет в порядке, Белочка. Я скоро вернусь, вот увидишь…»
Я подняла голову и увидела, что мама плачет.
– Не надо, мамуля. Ну, я и дура! Прости меня… не надо… У тебя поднимется давление.
– А второй раз был, когда уводили маму, – сказала она, отстраняя меня. – Я уже училась в институте. И только потом поняла, что все было точно так же. Точно так же. Я так же стояла в прихожей, прислонившись к тому же самому косяку, и так же ревела, и мама так же обняла меня и сказала… сказала…
– Мама, не надо!
Она смахнула слезы.
– …и сказала то же самое. То же самое! Те же слова, что и отец четырнадцатью годами раньше. «Все будет в порядке. Я скоро вернусь, вот увидишь…»
Я не знала, что ответить маме и надо ли отвечать вообще. Если рана остается открытой столько времени, то разве слова помогут? Поэтому я просто обняла ее покрепче.
Воскресенье мы договорились провести вместе – пойти в кино или в Эрмитаж, как раньше. Когда я была маленькой, мама часто таскала меня в Эрмитаж – ненадолго, на час-полтора, пока не устану. Мы проснулись поздно и, не торопясь, слопали восхитительный завтрак: яичницу, хлеб с маслом и холодную картошку с селедкой. День начался замечательно и обещал быть еще лучше. Потом мама ушла одеваться. Я мыла посуду, когда в дверь позвонили. На пороге стояли два милиционера.
– Вы к кому? – удивленно спросила я.
Они сначала протиснулись внутрь, а потом уже открыли рот:
– Романова Александра Родионовна?
– Да, это я.
– Кто там, Сашенька? – крикнула мама из своей комнаты.
– Паспорт, пожалуйста, – вежливо проговорил старший с лычками сержанта.
Паспорт, согласно моей рекомендации Лоське, лежал здесь же, на комоде. Чтобы не забыть – иначе не улетишь. Сержант открыл паспорт, посмотрел на фото, потом на меня, потом снова на фото, закрыл и сунул во внутренний карман кителя.
– Вы должны пройти с нами.
– Зачем? – пролепетала я, чувствуя слабость в коленках.
– Пройдемте, пройдемте, там объяснят…
Он протянул руку и взял меня за локоть.
– Саша… – послышалось сзади. – Саша…
Я обернулась.
Мама стояла у входа в кухню, прислонясь к дверному косяку. Глаза ее были широко раскрыты, губы дрожали. Я бросилась к ней и обняла, чтобы не видеть ее лица.
– Все будет в порядке, – пробормотала я совершенно автоматически. – Я скоро вернусь, вот увидишь…
Немного позже, сидя в желтом милицейском «газике», который ждал нас во дворе, я вспомнила эти свои слова и только тогда осознала, что в точности повторила то, что мама уже слышала дважды. Осознала и, ужаснувшись, инстинктивно рванулась наружу.
– Куда? – обернулся мент с переднего сиденья. – Тебе что, браслеты надеть? Это можно, только попроси.
– Пожалуйста! – взмолилась я. – Мне очень надо… на минутку! Только войти и выйти! Выпустите меня на минуточку, я сразу же вернусь. Ну, пожалуйста!
– Езжай! – скомандовал шоферу сержант. – Надо ей, понимаешь ли… Приспичило, что ли? Потерпи, тут недалеко.
«Газик» дернулся и, переваливаясь на колдобинах, выехал из подворотни. Я успела заметить изумленное лицо нашей соседки по подъезду. Еще бы не изумиться! Арестованную Сашу Романову увозят на ПМГ в сопровождении двух ментов, как какую-нибудь опасную преступницу! Но в тот момент я не думала о себе – только о маме, о том, каково ей приходится сейчас. Думала?.. – правильней было бы сказать, что я сходила с ума от беспокойства.
Путь и в самом деле оказался недолог. С Крюкова канала мы свернули на Садовую, немного проехали вперед и почти сразу остановились на углу Большой Подьяческой, у старого здания с пожарной каланчой. Милиционер распахнул передо мной дверь «газика»:
– Выходи!
Я спрыгнула на тротуар. Голова моя кружилась, ноги казались ватными.
– Вперед!
Мент подтолкнул меня в спину. Мы вошли в подъезд, спустились по лестнице.
– Налево! Вперед!
Подгоняемая короткими, как щелчок хлыста, приказами, я шла по пустому полуподвальному коридору.
– Стой! Лицом к стене! – сержант зазвенел связкой ключей, выбирая нужный. – Заходи!
Он втолкнул меня внутрь и захлопнул дверь. Я осталась одна в пустой комнате, почти камере. Крашеные стены – пожелтевшая от времени побелка сверху, грязно-зеленая масляная краска внизу. Высоко от пола, так что не выглянуть – подвальное окошко с мутным стеклом и тенью наружной решетки. Голая лампочка, свисающая с сырого облупившегося потолка. Разводы плесени по углам. Из мебели – пятнистый от чернил конторский стол со стулом и табурет. Что делать теперь? Сесть? Остаться стоять? После серии команд-щелчков я пребывала в состоянии унизительной слабости, когда человек затрудняется самостоятельно принимать даже простейшие решения. Никто не приказывал мне сесть, а сама я не могла уже решиться ни на что.