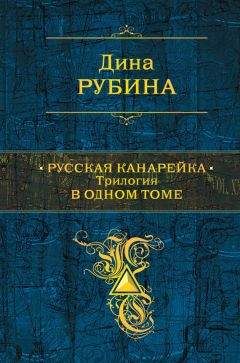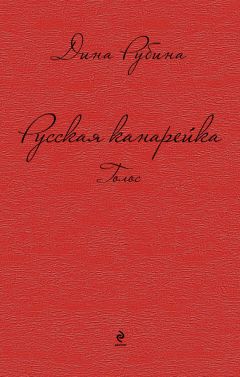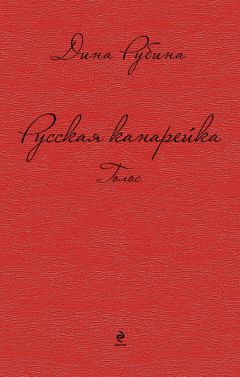Они сидели в самом углу стеклянного зала с двумя игровыми и одним фотоавтоматом, и Айя молча смотрела, как, поставив локти на стол, Леон обеими ладонями с силой растирает лицо, взбадривая себя, но одновременно и укрываясь (хочешь не хочешь) от ее непереносимого взгляда.
Принесли крепкий и неожиданно отличный для дорожной забегаловки кофе. Обжигаясь, Леон его заглотал, рассеянно пролистывая окружающие лица усталой шоферни.
Наконец перевел взгляд на Айю, в ее вымогавшие хотя бы словечко глаза и, сцепив руки на столе, скупо обронил, что есть, мол, такое благородное понятие «месть».
– Благородное?! – спросила она.
Да. Благородное, что бы там кто ни говорил. Ибо подразумевает немалую силу чувств, невозвратимые потери и неослабное страдание оскорбленного.
Ты понимаешь, о чем я толкую?
– Пытаюсь…
– Вот… Кстати, прекрасно звучит на всех языках и у всех народов, а мне особенно на русском нравится – острое отточенное слово, удар кастетом: «месть!».
Все-таки он бандит, бандит, бандит, в смятении думала она. Достаточно посмотреть в эти испепеляющие глаза, когда он произносит это бандитское слово своими бандитскими губами!
– Дело в том, что… понимаешь ли, Супец… Я пока тебе – конспективно, как уговорились, да? подробности потом, если выживем… Короче, сегодня выяснилось, что этот твой родственничек, этот Гюнтер… он уже бывал в моей жизни, правда, под другим именем. Он уже в ней прохаживался, хозяйничал втихомолку и, похоже, очень уютно себя чувствовал. В свое время, понимаешь ли, мы с ним были очень, оч-ч-чень хорошо знакомы. Я поражен, что не опознал его раньше на той фотографии, пусть даже и со спины. Я просто идиот! Если б я вовремя его опознал, ты, моя героическая бедняжка, была бы избавлена от вчерашней вечеринки.
Взметнув ужаснувшиеся брови, она уставилась на этого чертова конспиратора. Никак не отозвалась, пыталась осознать новость, ждала еще каких-то объяснений, хоть какой-то внятной истории с началом и концом – той, что, судя по всему, он не собирался ей рассказывать.
– И вот теперь, подавившись этой пилюлей, я должен восстановить поруганную честь. – Он усмехнулся: – Ты бы сказала проще: отчистить обосранный мундир, да? Ну, прости за пафос, я не нарочно – это так, издержки оперного жанра. В реальной жизни мои мертвецы на поклоны не вставали.
Она смотрела на него и видела лишь одно: меловую бледность затравленного лица. Но, может, это усталость от бессонной ночи за рулем?
– Вот тут горит, не остывая, – бормотал он, нетерпеливым движением кисти ополаскивая горло и грудь. – Горит и жжет… и просит залить пожар. Я даже знаю, какой жидкостью его заливать… Но это уже – как ты говоришь? – это уже театр.
Он покрутил в пальцах пустую чашечку и твердо поставил ее на стол.
– Ну и… некоторое время я буду этим очень занят. Разнообразно и опасно занят… И, как приличный человек, вынужден объявить, что ты можешь чувствовать себя… э-э…свободной… – Он с трудом переглотнул, будто у него действительно болело горло. – Свободной от меня и от всех моих гнусных дел, моя любовь.
Зачем ты это сказал? Ведь это же ложь, ведь ясно: стоит ей всерьез вознамериться встать и уйти, как ты взовьешься и настигнешь, и опрокинешь ее, и сверху упадешь – как сбивают пламя на жертве.
– Он принес тебе… горе? – наконец спросила Айя, все так же пристально и сурово на него глядя, легко пропустив мимо ушей, просто отметая идиотское предложение какой-то там свободы (будто она уже не нахлебалась досыта этой свободы – в аэропорту Краби, когда уходила в водоворот толпы на свой безнадежный рейс, а он стоял и глядел вслед, не двигаясь, как зацементированный. Будто они оба не нахлебались этой свободы – когда она загибалась от тоски в Бангкоке, а он метался в поисках ее – аж до апортовых садов катился!). – Нет, ты сейчас скажи, я хочу понять. – И с напором: – Он зло тебе причинил?
– Дело не во мне. В одном старике, которого я очень любил.
– И Гюнтер… что – издевался над ним?
Она ничего не могла понять в этом внезапном обвале новых бед и злилась: на него, на себя – за примитивный первобытный страх, что всякий раз подкатывал из желудка к сердцу, когда Леон вскидывал на нее свои невыносимо горящие глаза на очень бледном лице и казался просто безумцем, просто окончательно спятившим артистом, вот и все!
– Пытал он, что ли, этого твоего старика? Убил его?
– Наоборот, – безрадостно рассмеялся Леон. – Гюнтер прислуживал ему, купал, кормил и укладывал спать. Готовил свой неподражаемый салат с луковой розой… А убил – другого старика, в другое время… И еще кое-кого прикончил – не сам, чужими руками, – кто был мне достаточно дорог, кто от меня зависел и верил мне, а я вот их не спас… И этот провал тоже во мне клокочет.
– Леон… – в отчаянии проговорила она. – Я ничего не пойму в твоей бормотне!
– Да что тут понимать! – рявкнул он, оскалившись так, что Айю продрал мороз по хребту. Это был оскал волка, не человека. – Это ты-то просишь «понять» – ты, которая бежала от него на остров, к морским цыганам?! Мне нужна его голова! – прошептал он, склонившись к ней над столом, проникновенно и страшно улыбаясь. И простонал, чуть ли не задыхаясь от нежности, как задыхался в самые острые мгновения любви: – Мне голова его нужна! С луковой розой во рту.
* * *
В тот момент, когда они вновь сели в машину и Леон выехал на шоссе и погнал к зазеленевшей над деревьями полоске неба с черными галочками какой-то высокой перелетной стаи, – в тот момент он и вспомнил про маленький женский монастырь в бургундских лесах. Усмешка в лукавой бородке Филиппа: «Чем хороши эти богоугодные заведения – они во все времена человеческой истории играли роль этакой банковской ячейки, где можно передержать что угодно: спасенное еврейское дитя, внебрачного отпрыска какого-нибудь барона, беглого генерала СС, наконец…»
– Я не прав, моя радость?
«Моя радость» – настоятельница монастыря матушка Августа, в рясе и клобуке, сидела за столом напротив и благоразумно молчала. На губах у нее всегда витала чудесная, слегка удивленная полуулыбка, как бы оставшаяся (как улыбка Чеширского Кота) от прошлого светского ее облика. А вслед за улыбкой, как продолжение чуда, возникал голос: глубокий и чувственный – альтовый, совсем не монашеский.
Матушка Августа в молодости была хорошей альтисткой – в те времена, когда звали ее Сесиль Фурнье и она концертировала, выступая (и побеждая) на международных конкурсах. Филиппа знала с детства: ее отец, контрабасист, много лет играл в оркестре Парижской оперы под управлением отца Филиппа, Этьена Гишара.
Но… что-то стряслось в судьбе этой незаурядной женщины, о чем не распространялся даже такой закоренелый и неутомимый сплетник, как Филипп. Последние лет двадцать Сесиль провела в этом маленьком монастыре, возведенном на месте обычной, средних размеров, крестьянской фермы. Каждое утро над пересохшим каменным колодцем звонил колокол церкви, перестроенной – Леону особенно нравился этот евангельский мотив – из бывшего хлева. Когда умерла прежняя игуменья, из русских эмигрантов старинной дворянской фамилии, Сесиль заняла ее место, приняв имя Августы.
И вот что вовремя вспомнил Леон: по соседству с монастырем существовала ферма, купленная парижскими друзьями игуменьи. Обычная бургундская ферма, из тех, где время остановилось век назад: деревянные ворота в невысокой каменной ограде, за ними – большой двор, клочковато заросший травой. Внутри, как водится, службы, ныне пустующие: хлев, сарай, конюшня и мастерская… Но главное – старый фермерский дом: прохлада и уют мощных каменных стен, ряд чердачных окон в высоких скатах черепичной крыши.
Большую часть года ферма пустовала. В ней-то однажды и пришлось заночевать Леону с Филиппом, когда они припозднились за ужином в монастыре, крепко выпили и как-то не хотелось вести машину по узким средневековым улочкам меж каменных стен, а затем и лесом, и пустынной дорогой, да все по темени, выколи глаз. Вот тогда игуменья и предложила им заночевать на ферме, тут рядом…
Дом оказался просторным, с красноватыми, как поджаренные гренки, плитами каменного пола. На первом этаже все было обустроено для большой семьи: кухня с современной газовой печью (но старинную чугунную никто не выбрасывал) и гостиная с истинно бургундским, циклопических размеров камином, приспособленным под местные холодные зимы. Наверху, как обычно, три спальни, на чердаке – сеновал, винный погреб – в подвале.
Традиционный, добротный основательный дом.
…Утром выяснилось – еще и светлый, несмотря на черные балки потолка и громоздкую дубовую мебель. Сквозь целый ряд высоких, в частых переплетах окон ломилось солнце, так что надраенная решетка чугунной плиты в кухне, ввинченные в балки потолка крюки для окороков и разрозненная кухонная утварь над печкой горели яростной медью. Над диваном в гостиной обнаружились две картины в золоченых рамах. На одной группа крестьян дружно валила дерево, на другой те же крестьяне работали на винограднике, и корзины с винно-красным изобилием гроздей казались совсем неподъемными для их согбенных спин.