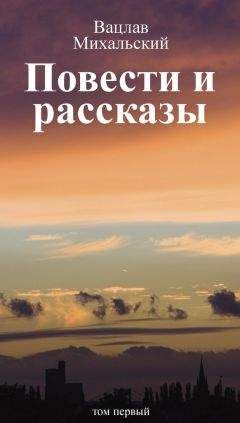А про Грецию-Македонию я узнал еще в 1945 году, еще до моей тяжелой болезни и школы. После того как мне приснился сон про Александра Македонского, я стал расспрашивать о нем всех подряд. Однажды пристал с этим к маме, а она вдруг возьми и скажи:
– Не один твой Александр Македонский жил в Македонии. Например, оттуда, из этой самой Македонии, пришли пешком в Россию оба твои деда – Адам и Степан.
Дальше в разговоре выяснилось, что случилось это в 1923 году, когда моей маме, одиннадцатому ребенку в семье, было шесть лет, как мне тогда, в 1945-м. А придя из Македонии в Таганрог, мои деды чуть ли не первым делом познакомили друг с дружкой моих родителей. Мама пообещала, что когда я подрасту, то она расскажет обо всем более подробно.
– А пока главное, выучить все буквы и самому научиться читать, а не повторять за тетей Клавой как попугай «Робинзона Крузо».
Хотя я и был согласен с мамой, но что-то мне не хотелось насильно учить эти буквы. Некоторые из них не нравились мне даже на вид, например: э, ю, щ, ы. Наверное, не зря говорила тетя Нюся, что лень вперед меня родилась.
А сейчас я смеюсь и думаю: если бы они знали, призывая меня к самостоятельному чтению, если бы знали, какого джинна собираются выпустить из бутылки!
XXIIIОбычно первые четыре класса дети учатся в школе хорошо, потом начинают учиться хуже, а в старших классах выравниваются и снова учатся хорошо. На моем примере это правило не сработало. Я всегда учился в школах плохо, очень плохо или сверхплохо. Только к четвертому классу я стал мало-мальски сносно читать, зато с пятого начал читать запоем, книгу за книгой, без малейшего зазора. В те времена единственным источником книг были библиотеки, и работали они замечательно. А какие изумительные библиотекарши служили в тех библиотеках! Как внимательно они относились к оболтусам вроде меня, как старались дать хорошую книгу. Я написал о библиотекаршах «служили» вполне сознательно. Да, они служили точно так же, как в идеале должны служить обществу военнослужащие, медицинские работники, священнослужители, как служат в театре артисты.
Зеленоглазая тетя Клава много раз читала мне «Робинзона Круза». С кой-какими пропусками я давно выучил Робинзона наизусть. Я даже предлагал моему верному другу Джи стать Пятницей, но он отказался. Когда мы, бывало, валялись с Джи на соломе в тени коровника, я рассказывал ему про Робинзона, про Пятницу, и он с удовольствием слушал. Однажды я набрался смелости и предложил:
– Слушай, Джи, будь моим Пятницей. Согласен?
До этого добрые серо-зеленые глаза пса вдруг стали злыми, он щелкнул зубами и промахнулся – большая навозная муха увернулась и полетела от нас в коровник докучать маленьким черным коровам. Я понял, что Джи не хочет быть моим слугой. Потом я предложил этот же пост жеребенку Ви. В ответ он панибратски лизнул меня по уху и заржал так заливисто, как будто расхохотался мне в лицо. С тех пор я потерял интерес к «Робинзону Крузо», а вместе с ним и ко всем остальным пока еще незнакомым мне книгам мира.
И вот этот интерес неожиданно проснулся, наверное, так просыпается дремавший до поры вулкан: неукротимо бурно. Я не помню, с какой именно книги началось мое запойное чтение, но помню, что это случилось в лето с четвертого на пятый класс.
Тогда мой дед Адам, бабушки и я жили в пригородах Нальчика на так называемых «планах».
– Ты где живешь?
– На планах.
Откуда взялось это «на планах», не скажу. Но, безусловно, оно произошло от слова «план». На окраине города были распланированы под частную застройку лоскутки земли по шесть-восемь соток. Из этих лоскутков затем спланировали улицы, скорее всего, оттуда и появилось местное выражение «жить на планах».
В те времена слово «план» было очень распространенным, буквально пронизывающим всю нашу жизнь. У всех были планы: у государства, у заводов, у фабрик, у людей. Планов было так много, что начало казаться, что именно планы мешают жить согласно здравому смыслу и добрым намерениям. Стали поговаривать о том, что главное – поломать «плановое хозяйство» и тогда наша жизнь наладится дивным образом. В конце концов «плановое хозяйство» искоренили, но как-то так, что искоренили не только планы, но и хозяйства. Все очень надеялись на хаос, который поправит все сам собой. Не поправил. И теперь уже никто не знает, есть ли еще хоть какая-то надежда.
А тогда «на планах» у нас была турлучная мазанка в глубине двора и стены строящегося дома впереди, по фронту улицы. Турлучная – значит из плетней, между которыми была засыпана и утрамбована земля. Пол в нашей времянке тоже был земляной, тетя Мотя и тетя Нюся раз в неделю подмазывали его свежей глиной, и он всегда приятно пах, всегда был гладкий и красивый. Особенно радостно было ступать босыми ногами по полу нашей мазанки летом.
Центр города сильно пострадал в войну, и, хотя уже шел пятый год после нашей Победы, многие здания еще стояли в развалинах. Например, я хорошо помню дом, который назывался «партактив». Как я сейчас понимаю, в нем жили до войны партийные активисты, так сказать – лучшие люди сезона. Еще три минуты тому назад, когда я писал эти строки, мне казалось, что партийные активисты навсегда канули в Лету. Пошел на кухню налить себе чаю, а там из телевизора: «активисты нашей партии…»
– Опять ты бегал на «партактив»? – сердилась тетя Нюся.
О том, что я побывал на развалинах, она узнавала очень просто: по моим ступням, а то и щиколоткам, белым от извести. Стены разрушенного дома были сложены по старинке не на цементном, а на известняковом растворе. Кое-где на них росла жесткая чахлая трава, а в одном месте даже кривая березка. В торце здания сохранились парадная каменная лестница с балюстрадой и часть первого этажа, где размещался продовольственный магазин, в котором не было ничего, кроме маленьких банок каспийских килек в томатном соусе и дальневосточных крабов в собственном соку. Кильки народ брал, а крабы не пользовались спросом, тогда еще наши люди не знали, что это деликатес, и относились к крабам с подозрением.
С высоты «партактива», особенно с уровня третьего этажа, хорошо просматривались окрестности. Прямо перед домом начиналась очень большая поляна, метров двести в диаметре, на этой поляне мы пасли коров, а сейчас, говорят, там главная площадь города, залитая асфальтом. Наверное. Точно я не скажу, потому что никогда не бывал в местах моего детства – меня туда не тянет. Зачем мне там бывать? Чтобы разрушить память сердца? Меня это не привлекает, я за то, чтобы в моей душе и памяти картинки былого остались в полной неприкосновенности, в их первозданном виде, без напластования каких бы то ни было новых впечатлений. Я знаю, что уже писал об этом выше, но просто захотелось написать еще раз, и я написал.
Тем знаменательным для меня летом с четвертого на пятый класс ни я, ни другие ребята с нашей улицы уже не пасли коров на большой поляне. Дело в том, что за зиму и начало весны на середине пути к поляне построили несколько высоких и прочных бараков, обнесли забором из штакетника и откуда-то перевели туда детский дом для глухонемых. А те глухонемые мальчики дрались так молча и яростно, что скоро все убедились – мимо них не пройдешь. На этом примере я, кажется, первый раз в жизни понял, и не просто понял, а испытал на собственной шкуре, что бывают обстоятельства непреодолимой силы, то, что в юридических договорах называется «форс-мажор». Делать было нечего, и мы стали пасти наших коров подальше от детдома глухонемых. К чести последних будь сказано: они никогда не били лежачего и не преследовали убегающих.
Каждое утро я просыпался от возгласа тети Нюси:
– Ногу, Красуля, ногу!
Это за турлучной стеной нашей мазанки, в сарае тетя Нюся начинала доить нашу знаменитую корову Красулю. А знаменита она была тем, что Красуля позволяла мне ездить на ней верхом.
Красуля происходила из породистых коров, считалось, что ее привезли из Германии после войны, хотя достоверных свидетельств по этому поводу не имелось. Но так говорил мой дед Адам, он всегда любил козырнуть хоть чем-то. Красуля была большая, шелковисто-красная с плоским белым лбом, с большим выменем, с красивыми, словно отполированными, рогами, с огромными печальными глазами и таким длинным хвостом с белой кисточкой, что она очень ловко отгоняла им от себя мух и оводов. Говорили, что Красуля «цементальской» породы. Сейчас я знаю, что эта порода правильно называется симментальской и происходит ее название от швейцарской местности Зимменталь. В России эта порода распространялась еще с середины XIX века. У одних только приволжских немцев было много крупного рогатого скота симментальской породы.
Все другие коровы с нашей улицы смотрелись перед Красулей, как угловатые подростки рядом с роскошной дамой нездешней красоты и поступи. Да, поступь у Красули была величавая! Когда по утрам мы шли на выгон, все хозяйки невольно любовались нашей коровой. Еще бы им не любоваться: большая, килограммов в пятьсот-шестьсот, всегда очень ухоженная стараниями тети Моти и тети Нюси, с гладкой блестящей шерстью красноватого оттенка, Красуля шагала так статно, так непринужденно, что у каждого, кто ее видел, становилось хоть чуточку, а легче на душе.