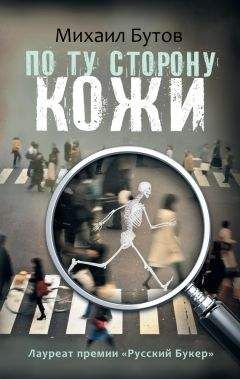– Все равно. Сходи хоть сегодня купи себе что-нибудь.
– Не знаю. Суббота, вечер – тут поблизости ничего уже на найдешь.
– Тогда приезжай! Не валяй дурака!
– Да нет, мама, – сказал Бекетов. – Мне хорошо.
Но о еде все-таки следовало позаботиться. Проинспектировав на кухне шкафы, Бекетов обнаружил в запасе только полкило риса. И тогда все же прикинул: может, действительно – в гости? В хороший дом, тароватую семью, где сладко чавкает дверца холодильника, где блюд на столе по числу постных дней – сорок восемь, а за столом приятные люди обсуждают интересные и легкие вещи? К кому бы? Но нынешнее одиночество, в которое некому ворваться против его воли, обещавшее спокойную работу, тихий разговор с собой, а после полуночи – приятную борьбу со сном над каким-нибудь романом из библиотеки хозяев, вдруг показалось таким желанным, что Бекетов некоторое время возбужденно шагал по комнате, снова и снова дотрагиваясь внутренним касанием до неожиданного своего счастья, как до зарубцевавшейся раны, прикосновение к которой приятно именно вследствие памяти о минувшей боли.
Еще вчера он бродил по городу в одном пиджаке, а тут пришлось снова напяливать шапку: ветер носил мокрый снег, лупивший в лицо и набивавшийся за воротник. Прячась за стеклянной стеной троллейбусной остановки, Бекетов размышлял о том, почему из двух праздников, связанных с самыми значимыми (если какая-то градация вообще здесь возможна) и уж наверняка самыми чудесными событиями священной истории, для него всегда была более сокровенной таинственность Рождества. Как будто затушеванной казалась ему глубина тайны Пасхальной – ликованием, вздохом облегчения, испускаемым после семи недель замирания и скорби. Но ведь постятся и под Рождество, и так же ликующи рождественские песнопения. А настоящая причина, наверно, всего лишь в том, что на Пасху он всегда оставался в Москве, всегда с головой в тех опостылевших житейских попечениях, которые и требуется отложить – да кто сумеет сейчас. Рождество же случалось праздновать в маленьких дальних городках, стоять службы в полузанесенных снегом деревенских храмах. Да и в Москве в рождественские дни все совсем по-другому. Сколько он помнил, никогда не бывало в эту ночь ветра. А главное – особое чувство снега: тихо падающего, ложащегося ласково, укрывающего…
Вопреки обыкновению на вокзале почти не оказалось торговцев. Но Бекетов остался доволен, купив банку голландских сосисок, которые ценил за содержащийся в них соус. Денег хватило еще на пакет с овсяным печеньем, и он уже направлялся прочь, когда под рукой образовалась старушка при муфте и в шляпке.
– Молодой человек! – она с веселой требовательностью подергала его за куртку. – Будьте добры – на хлебушек! Ради праздника.
Чуть заметный прононс наводил на мысли о дамском пансионе.
Бекетов удивился: казалось бы, попрошайничество должно развивать интуицию. Неужели она не чувствует, что с него не возьмешь многого?
Но печенье пришлось отдать.
А однажды, когда, почти еще не знакомый с Диной, Бекетов был неожиданно приглашен в Рождество к ней, блуждая вечером в поисках нужной улицы по окраинному району, он очутился возле какого-то строения без окон, откуда светил вниз и чуть вбок мощный желтый прожектор. Тогда, глядя на отчетливую, напоминающую в резком боковом свете миниатюрный горный ландшафт, фактуру утоптанного снега, проявлявшего словно бы и необычную свою, аморфную, изменчивую природу, и истинную неподвижную сущность, Бекетов совершенно отчетливо почувствовал, что сейчас это действительно может произойти. Что пастухи, волхвы, вол с осликом, сами ясли и вертеп уже выступили из-за завесы, скрывавшей их на протяжении то ли долгой цепи реинкарнаций, то ли некоего отстраненного тайного пребывания; уже соединились где-то и снова ждут, исполнившись надежды. И после все пытался представить себе, как, не ведая чисел и сроков, сходятся они так раз, быть может, в триста, быть может, в тысячу или пятьсот лет, как проводят в молчании ночь и потом снова отступают в неизвестность, чтобы возвращаться опять и опять. Но знают, что упование их не ложно, и сколько ждать – не имеет значения.
Вот, вот тело, – писал Бекетов, —
Выкрикивает свои порядки,
Учит само себя.
Отрываясь, подолгу курил у окна, вглядываясь в мокрый асфальт перед домом, в мокрую кошку под козырьком подъезда, в движение красных огней, отмечающее эволюции пытавшегося припарковаться в узкую щель между другими автомобилями, – и переживал, оставаясь всецело в пространстве слов и просодии, разрыв с существенностью.
Так совпало, но, едва вселившись сюда, он тут же и вычитал в письмах Пушкина, что именно на углу Тишинского и Малых Грузин жил и сходил с ума Батюшков. И порой вполне готов был поверить, что тень безумного поэта покровительствует его труду. Строки перевода ложились здесь на бумагу так легко, будто он всего лишь следовал чужому внятному голосу.
Отныне спокоен,
Отныне я жду откровенья.
Дорога ли, утро однажды
Станут мне знаком?
Было почти одиннадцать, когда телефон ожил снова.
– Ты поселился там навсегда? – спросила Дина.
– Нет, – сказал Бекетов. – Но хотел бы.
– Останешься дома?
– Дома. Ты тоже?
– Конечно. Здесь ведь ребенок.
– А что твой муж?
– Объелся груш, – сказала Дина. – Зачем ты… – Потом добавила: – Ветер стих.
– Любишь его?
– Кого, ветер? Тебя люблю.
– Тогда позвони еще. Ночью.
– Зачем это?
– Ну как зачем? Я скажу тебе, что Христос воскрес.
– Нет уж, – засмеялась она. – Это я скажу: воскрес.
А тебе отвечать: воистину! А его уже увлекла идея, что череда церковных праздников, даты которых он тут же и взялся выписывать из десятилетней давности календаря, найденного на полках, должна воспроизводить евангельские события не просто сами по себе, но непременно, пусть в некотором условном времени, и их последовательность. И тогда получалось, что нынешняя Пасха связана не с этого года Рождеством, но как раз с тем, позапрошлогодним, с которого и началось их с Диной сближение.
Рис Бекетов поставил вариться заранее, чтобы поужинать сразу после двенадцати. За пять минут до полуночи прочел про себя короткое правило и включил разбитый приемник, батарейка к которому была прикручена клейкой бумагой. В доступном ему диапазоне духовную музыку передавала почему-то только станция, обычно специализирующаяся на рок-н-ролле. В полночь они закончили: прошли позывные и наступила тишина.
Бекетов открыл форточку. Словно гадающая в полнолуние девушка, он вдруг уверил себя, что первый звук, дошедший сейчас извне, непременно должен что-то сказать ему о том, чего он ждал и на что надеялся всем своим существом: о перемене участи, какой бы она ни была. Но долго, несколько полных минут, тишина оставалась абсолютной: он не слышал ни речи, ни машин, ни звука шагов. И тогда Бекетов понял, что на самом деле готов уже, давным-давно готов смириться с тем, что вот так и будет, с каждым годом молчание все глубже, а приступы тоски все глуше и безысходнее. Может, это и есть тот главный приговор, который каждый рано или поздно оказывается вынужден произнести самому себе? Но пока что – пока что, оглядываясь назад, хотя бы несколько разрозненных дней мог он еще различить отчетливо. Прожитые иногда с Диной, чаще в одиночестве, всегда внешне пустые, но отмеченные, подобно сегодняшнему, какой-то особой ясностью и чистотой, только они и составили в эти два года подвесной мостик для его души. И помнить о них – даже если когда-нибудь все еще станет иначе, даже если смятение и хаос все-таки отступят, дав ему воздух, необходимый, чтобы осуществить себя, – он всегда будет с гордостью и благодарностью.
А потом, как песня из рожка Мюнхгаузена, что-то наконец оттаяло в воздухе. Но не определить было ни природы этого звука, непредставимой в городе, ни сути искомого в нем обещания. Далеко, за домами, что-то заухало, тяжело, торжественно и протяжно. Словно большая птица, подумал Бекетов.
И повторил вслух:
– Словно большая болотная птица.
Музыка для посвященных Повесть
В целях воспитательных Александру Васильевичу следовало бы, конечно, напомнить Маше, что такой вот, наперед не допускающий возражений тон, каким она взялась вдруг говорить с ним, неуместен в отношении не только собственного отца, а кого бы то ни было вообще. Но когда, не без оснований предполагая возможность отпора с его стороны и поспешив поэтому обидеться заранее, она стала яростно отмахивать кулачком и пустилась в доказательства некоей необходимости, в силу которой непременно должна была пригласить сегодня вечером троих подружек, Александр Васильевич внезапно догадался, что ведь салат с кальмарами появился за ужином вовсе не случайно. Похоже, жена и дочь взяли теперь за правило: если намечалось что-то, ломающее обычный размеренный порядок жизни и способное вызвать его неудовольствие, – попросту размягчать его предварительно, подавая к столу какое-нибудь из немногих блюд, к которым был он неравнодушен. И правда, все сходилось: на прошлой неделе, когда пришлось тащиться к двоюродной Нининой сестре на именины, было смородиновое желе. А прежде так давно его не готовили, что даже странно, откуда Нина помнит, что любит он именно смородиновое. Еще раньше – Александр Васильевич забыл уже, чего от него потребовали в тот раз, – маленькие эклеры с заварным кремом… Растерявшись перед наивностью такого подкупа, еще не зная, рассердило его это открытие, рассмешило или растрогало, он не сдержал себя и слишком откровенно перевел глаза с пустой салатницы на Машу, потом обратно. А встретившись взглядом с женой, уже разгадавшей ход его мысли и прикрывшей ладонью рот, чтобы спрятать готовый вырваться смех, – все-таки улыбнулся и сам, против воли. И сразу сделалось поздно протестовать.