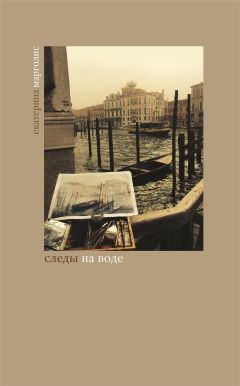Ознакомительная версия.
«Сейчас, как никогда, уму было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь».
Знаменитая фраза из «Доктора Живаго». Усомнюсь и поверю. И снова усомнюсь. И, может быть, снова поверю?
Глава третья
Доктор Йона во чреве китовом
А в Венеции сияло солнце. Толпы разодетых туристов струились в сторону Сан-Марко отмечать начало карнавала. Но венецианцы шли в противоположную сторону – в театр Гольдони. Сегодня 27 января. День памяти Холокоста. Вход открыт для всех.
Театр был полон. Мэр сказал свою недежурную речь о том, как мальчиком ему рассказывали родители о депортации венецианских евреев. Передал слово Амосу Луццато. Амос, наш давний друг, – врач-хирург, писатель и библеист, президент еврейской общины Венеции. 85-летний доктор Амос стоял на сцене прямо, лишь слегка опираясь на палочку, и говорил коротко и ясно, хорошо поставленным профессорским голосом. Он представлял спектакль, посвященный другому венецианскому доктору. Доктору Йоне. А еще Амос говорил о том, что, когда шел на эту традиционную церемонию, которая называется Giornata della Memoria (День памяти), он подумал о том, что добавил бы одно, на первый взгляд парадоксальное замечание. Он представлял не День памяти прошлого, а День памяти настоящего… Зал аплодировал.
В Венеции, где плотная ткань времен вплетена в ткань повседневности и где времени нету вовсе, это ощутимо буквально. И здесь я могу лишь повторить вслед за своей героиней: «Память – не ярмо и не якорь. Мы несем в себе все, что было, но одновременно мы идем вперед. Как во дни Лота, мы покидаем горящий город, но не отрекается от прошлого. Память о потерях не позволяет нам останавливаться. Иначе – соляной столп. А мы должны помнить и рассказать. Разве, кроме своей личной истории, мы не впитали общую? Разве, родившись десятилетия спустя, я не несу в себе почти физическое ощущение русской революции, которая вырвала тысячи людей из русла семейной истории, пожгла дома, порвала связи, выкорчевала корни; разве во мне не стынет ужас ГУЛАГа и ленинградской блокады; разве Сталинградская битва – это не то, что имеет отношение лично ко мне; разве моя кожа не помнит холодок смертного страха, разве во мне не течет та же кровь, что спекалась в печах Освенцима?» Через поколения все это говорит в нас, когда мы говорим друг с другом и понимаем друг друга по любую сторону государственных границ…
А потом был спектакль. Два пюпитра, два актера. Он и Она. Она его сестра Амалия. Он – доктор Йона. Глава еврейской общины Венецианского гетто. Гетто, как известно, венецианское слово. Венецианское гетто – место, где жили еврейские семьи с XVI века. Изолированный каналами кусочек сестьера Каннареджо. Во времена Венецианской республики в ответ на настойчивое требование Папы об изгнании евреев из Венеции Совет Десяти принял компромиссное решение: поселить евреев, до того селившихся свободно по городу (в основном на острове Джудекка), в место, известное как Ghetto Nuovo – новая плавильня. Делать было нечего, и евреи переселились туда. Все лучше, чем изгнание. Община росла, а кусок земли оставался прежним. Гетто росло вверх (да, это правда символично), к домам пристраивались новые этажи, и поэтому именно в гетто самые высокие дома во всем городе – шести-, семиэтажные здания XVII–XVIII веков.
Но сейчас на дворе 1943 год. Зима. Вся остальная Европа уже горит в войне. Уже дымят трубы лагерей. Но остров живет своей тихой жизнью. Бедной, но почти мирной. Хлеб, вино, сыр. Итальянский фашизм давно уже стал повседневностью, но при этом Муссолини с начала войны удается не допускать «окончательное решение еврейского вопроса» на итальянскую землю. И все же этот день пришел. Доктора Йону вызывают в префектуру. У ступеней пришвартована черная лодка. На ней прибыл немецкий генерал, которому поручено самим Гиммлером наконец разобраться с венецианским гетто. История повторялась, но в середине XX века венецианское гетто казалось уже райским местом. Жило там около пятисот человек, остальные венецианские евреи давно перебрались в другие кварталы – кто куда. Вот с этим-то и приехал разобраться генерал. Доктор Йона? Очень приятно. Много наслышан. Говорят, вы человек уважаемый и разумный. Не могли бы вы нам помочь? Что нужно? Да сущая мелочь – у вас же, как у главы венецианской общины, должны быть полные списки: имена, фамилиии и адреса. Что вы молчите? Говорите, у вас это не принято? Вы не держите списков? Только маленькую тетрадочку, куда записываете недавно родившихся. А так все всех знают? Просто встречаетесь на улице или в синагоге… Ну так скажите нам пока так, навскидку, сколько евреев в Венеции. Около тысячи? Отлично. У вас есть 24 часа, чтоб дописать в тетрадочку остальные 900 имен и адресов. Мы ждем вас в префектуре завтра утром в 7.30. Повторю. Вас рекомендовали как уважаемого и разумного человека. Надеюсь, вы нас не подведете.
Над Венецией вставало зимнее дымчатое солнце. Как сегодня. Сестра Амалия чувствовала, что с Джузеппе что-то не то. Он встал по обыкновению рано, но, не дождавшись ее, почему-то сам разжег печь на кухне. Потом оделся и вышел. «Я спешу. Прости», – бросил он на ходу и на секунду поглядел ей в глаза. Дверь захлопнулась. Амалия подошла к печке. И поняла все. В печке догорала тетрадь, в которой у Джузеппе Йоны, педантичного доктора и главы венецианской еврейской общины, конечно же, были записаны все 1448 имен, фамилий и адресов венецианских евреев.
А Джузеппе знал, что ему делать. Он шел к префектуре и сжимал в кармане револьвер. Он поднимется прямо в кабинет, ровно в 7.30. Он будет точен как часы. Дверь ему откроет синьор Тревизан, который будет прятать глаза и улыбаться ничего не значащей чиновничьей улыбкой: мол, что мы можем, скромные итальянские служащие – это ж все они, немцы… Он пройдет в кабинет. И в тот момент, когда генерал гестапо уже будет торжествовать победу и протянет руку за заветным списком, он подастся вперед, но вместо тетради у него в руке будет револьвер. И он выстрелит ему аккуратно между близко посаженными холодными серыми глазами… Вот и они, белые ступени истрийского мрамора здания префектуры. Черная гондола генерала покачивается, привязанная к деревянным мосткам. Нет, все будет по-другому. Только он, Джузеппе, знает всех евреев Венеции. Он и его тетрадка. Тетрадка уже догорела на кухне. Амалия вытряхнет пепел в канал. А ему осталось убрать последнего свидетеля. Доктор Йона подошел к дверям префектуры, достал револьвер и выстрелил себе между глаз.
Он не смог спасти всех. Венеция – город отдельных людей. У каждого есть имя и лицо. Она осталась такой даже в те годы, когда история привыкла оперировать миллионами с уходящим в историческую перспективу рядом нулей. Той зимой было депортировано 248 евреев, из которых после войны вернулось только восемь. И Венеция знает их поименно: их имена и возраст выбиты на досках памятника жертвам холокоста на главной площади гетто. И все же доктор Йона спас 1200 человек, чьи адреса и фамилии знал только он, и без его помощи найти их в лабиринте венецианских улиц, как ни странно, нацистам оказалось не под силу.
Мы вышли из театра. Старые, молодые, студенты, ученые, музыканты, художники, галеристы, писатели, владельцы лавок, профессора и депутаты. По-прежнему светило яркое воскресное солнце. Последним по ступенькам театра медленно спускался, опираясь на палочку, Амос. Мы обнялись. «И зачем актер столько кричал, – прошептал он мне на ухо. – Кричать – не значит помнить. Память говорит тихо».
Глава четвертая
Вечное детство
Трубочка ведет от катетера к монитору. На мониторе виден пульс. Возвращаюсь взглядом по трубочке на восемь лет назад, обратно к катетеру. И снова вижу Лёву. Всего целиком.
Живой. Исхудавший, но живой: просматривающиеся косточки, вздувшийся живот, лысая голова, которая по отношению к маленькому тельцу кажется слишком большой, прозрачное личико, точнее, лик, с тонко прочерченными чертами, а эти скрещенные ножки, которые так напоминают иконописное распятие… Пугаюсь своего сравнения и тут же отчетливо чувствую, что в нем правда. Евангелие без слов – от головы до стоп.
Вчера к Лёве приходил волонтер Миша. Миша психолог. Дина его любила, а Лёва просто обожает. Миша так сумел развлечь его, что Лёва протянул без морфина почти полтора часа. Вместе они надували резиновые перчатки – получились воздушные шарики с растопыренными хохолками пальцев наверху. Вот, лежат на кровати. Я тоже принесла шарики и январские фотографии, но Лёве они уже не нужны и не интересны. Пока Лёва забывается сном, я беру фломастер и рисую на каждом шарике-перчатке глаза и рот. Получается семейство ежиков, испуганно сбившееся в кучу в углу большой кровати. Лёва спит. «Как на пляже», – скажет Миша, зайдя через полчаса. Странно, мне то же самое приходило в голову. Помню, был такой психологический тест на восприятие жизни: что для вас море? Для меня: бескрайность и свобода. И тогда у окна Диночкиного бокса все будто слышался плеск волн и рисовались совершенно отчетливо картины моря: Диночка, сидящая на берегу, Лёвик, который бегает по кромке воды, и неизменно юные и красивые Сережа и Наташа – родители Димы Кишларя, и сам годовалый бутуз Кишларик, меланхолично накладывающий совочком песок в ведерко…
Ознакомительная версия.