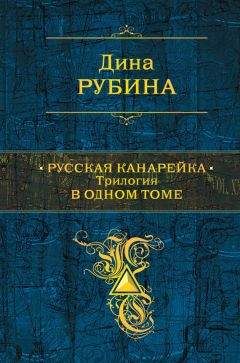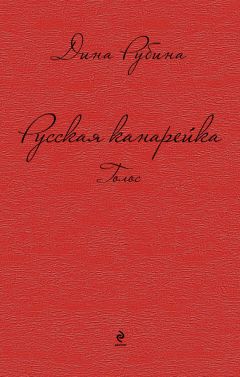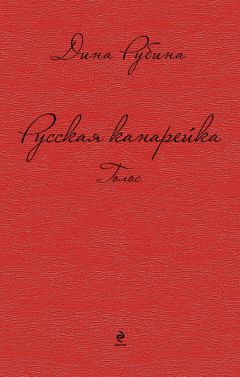Вот что Леону не давало покоя: почему Чедрик все время тут околачивается? Кто его приставил к Леону – «Казах»? С какой целью? Неужели сам он, его семья, его дом больше не нуждаются в надежной охране (разве что он сменил Чедрика на кого поумнее)? Ведь, потеряв сына, «Казах» должен был опасаться, что и его самого в любой момент могут ликвидировать?
Это был единственный недостающий фрагмент целой картины, который Леон, понятия не имевший о случайной смерти «Казаха», не мог воспроизвести. Необъяснимое исчезновение «Казаха», его неприсутствие в кадре – вот что не давало покоя; возможно, потому, что (будь честным, говорил себе Леон) каким-то образом с этой фигурой была связана Айя. В тяжелые дни полного затишья бывали невыносимые минуты, когда он просто жаждал услышать наверху голос Фридриха – пусть бы за этим последовали новые пытки: хоть словечко о ней, хотя бы намек – где она…
Где она сейчас?
Наконец его вытянули наверх. Самостоятельно он не смог бы еще подняться по лестнице. Спустился вниз Джабир, обвязал Леона ремнями, и грубыми рывками его потащили. Слегка пришедший в себя за последний месяц, Леон решил, что волокут его на новый допрос, и испытал какое-то бездонное холодное отчаяние: вот теперь он больше не выдюжит. Больше – нет…
Но его просто вытащили и проволокли по длинной бетонной кишке, освещенной двумя тощими флюоресцентными лампами, в комнату, где, видимо, по очереди спали его охранники. Там и лежбище было – брошенный на пол матрас, – и низкий столик с тремя кальянами; стул, тумбочка, умывальник. Судя по отсутствию окон, какой-нибудь очередной этаж данного бункера.
Затем явился Умар с синим тренировочным костюмом в руках, бросил его на стул и кивком приказал своим подручным одеть Леона. И сердце у того забилось: ни на расстрел, ни на повешенье эти врага не принаряжают. С места на место они обычно его и так перевозили, без смокинга, в вонючих лохмотьях. Значит… что же? Значит, значит…
Костюм оказался большим, возможно, с кого-то снятым. Штанины и рукава пришлось просто отхватить ножом. Тем же ножом отхватили ему бороду – нелепыми клочьями.
– Абдалла, поставь ему тут ведро, – велел Умар. – Сегодня пусть здесь валяется, а завтра – халас[74], избавляемся…
Вот когда ему стоило нечеловеческих усилий сдержаться, не шлепнуться на пол, не возрыдать на арабском:
– Аху шлуки![75] Умоляю, скажи: что значит «избавляемся»? – душераздирающий приступ благодарной любви и желания схватить и целовать руки этого прекрасного, щедрого, благородного человека…
Леон сидел на стуле с равнодушным лицом, лбом опираясь о перекладину костыля, мысленно заставляя себя монотонно твердить страшные, непроизносимые арабские ругательства. И через минуту полегчало, отпустила мутная исступленная слеза унизительной истерии, и на смену ей пришла холодная ярость врага, неудержимое желание снести, взорвать эту подземную бетонную цитадель черной боли, страдания и страха – взорвать, пусть и вместе с собой!
– Пусть ляжет, – добавил Умар. – Завтра он должен прилично выглядеть. – И по-английски, Леону: – Иди, ложись, ты! Ты, ты, артист! Ложись, понял? Кончены песни…
Уже в коридоре, перед тем как навесить на дверь замок и замкнуть его (никогда слух Леона не работал с таким неистовым напряжением), Умар кому-то буркнул:
– И того, йа ибн иль шармута[76], – не пускать. Не пускать, я сказал! Урбут эль хмар уэн бадо сахбо![77] На этом чертовы деньги замешаны и политика – французы, турки, оружие… какой-то интерес Тегерана. Платят за нашу канарейку, ясно? И много платят!
Ключ скрежетнул в замке, шаги стихли… Вот она: комната, пусть без окон, пусть запертая, но… комната! Лучшие в его жизни апартаменты. Прости, моя любовь, что я привел тебя в эту клоаку…
…И лишь тогда, не унимая колотящегося сердца, он впустил Айю: безмолвно она вошла, присела на корточки рядом с его матрасом, осторожно опустилась на колени… и он легонько, стараясь не причинить себе боли, искореженными пальцами коснулся ее грудок: старшая… младшая… А вот моя старшая… а познакомьтесь-ка: младшая. Они сравняются, когда наполнятся молоком…
У тебя, наверное, уже отросли длинные волосы, и ты убираешь их за левое ухо, в котором качается монета – царский червонец Соломона Этингера, мое наследство, чистая уральская платина. А крошечные шелковые стежки от бывших колечек – они ведь давно заросли?
Его отбитое тело, его онемевший от побоев пах ничего не хотели, ни капли чувственного желания не было в его истерзанном костяке. Ничего, кроме нежности, кроме счастья; кроме нежности, свободы и счастья… Они так и заснули рядом – он не мог даже обнять ее по-человечески. Под бледнеющим небосводом мерно катились по черной акватории серебряные гребни волн, а гребень скалы круглился двумя кучерявыми холками – двумя няньками, баюкающими в седловине лимонную луну…
Так они и плыли на пенишете в наступавшее утро, в сизое небо, что с каждым мгновением выпивало из моря синие соки дня. По горам стекал зеленый шелк рассвета, а в отдалении – пунктиром – шла на лов флотилия рыбачьих лодок, и ровно тянуло свежим ветром…
Скрежетнул в замочной скважине ключ, и Леона подбросило: утро?! за ним пришли?! Как все произойдет, как повезут – на машине, потом аэродром, самолет?!
Но в щель приоткрытой двери лился из коридора мертвый металлический свет, в котором – не может быть, наваждение! – он узнал зловещий силуэт: Чедрик! И понял, что погиб, обречен: один, с больными ногами, никуда не годной правой рукой и едва сросшимися ребрами… Чем, чем соблазнил этот гад остальных – наркотиком? Не может быть, чтобы Умар выдал ему ключ за просто так…
Рывком изогнувшись, бесшумно подтянул к себе костыль и левой рукой крепко схватил у основания…
Несколько долгих секунд Чедрик стоял в проеме двери, пытаясь сориентироваться в темноте, нащупать глазами Леона… Наконец мягко ринулся к нему. Леон метнул костыль, метя в переносицу, но промахнулся, и великан, взрыкнув, навалился сверху, придавил всей тушей, прижав к горлу Леона лезвие ножа.
– Вот этот нож, – в восторженном трансе шептал на арабском, будто самому себе, – я тебя им располосую, если дернешься…
Он сопел, дыша на Леона дикой смесью мяса, чеснока, характерной вонью каннабиса… Капли жаркого пота падали на лицо Леона с жирного бугристого лба. Чугунная туша, распластанная поверх его искалеченного тела, полностью его парализовала, давила, не давала дышать.
Вот он, миг для самой последней версии!
– Брат! – выдохнул Леон по-арабски из-под самых ребер. – Выслушай меня, брат… Все это ошибка… тебя ввели в заблуждение… Я расскажу тебе, как все было на самом деле…
Но в мутном сознании великана арабская речь Леона воспринималась как естественная попытка смертника выкрутиться из последней петли; возможно, в наркотическом возбуждении он и не различал языки. Он и говорил с собой, только с собой и еще со своим умершим, и слышал только себя.
– Он мертв и лежит в земле, – бормотал Чедрик, прижимая лезвие к горлу Леона все плотнее, – а ты жив… И они говорят, за тебя дают большие деньги… За канарейку много платят, говорят они, продажные твари… Хорошо, говорю, я не стану его убивать, пусть канарейка и дальше поет – хотя мой Гюнтер лежит в земле и ничего уже не услышит, не увидит… Пусть канарейка и дальше поет, даже лучше поет, но пусть тоже ничего не увидит!
Навалившись на обездвиженного Леона, левым локтем он пережимал горло пленника, так что дыхание того становилось все реже, а сознание поплыло в безбрежную смерть, в распахнутую равнину мертвенной мессы, в невыразимую тоску…
«Вот сюда», – показала Стеша на горло, и он понял, что его приглашают в компанию тех, кому уже не до воздуха, – пора, мол, давно не виделись… Тихо вращаясь гороскопическими близнецами, проплыли «ужасные нубийцы»: Тассна и Гюнтер-Винай с луковой розой во рту; Винай подмигнул Леону – ты ведь этого добивался?
Под зловещий клекот в адском мраке ледяного тумана восстали, надвинулись мертвецы – бородатые тени в белых саванах… Под далекий гул подземного зова его волокли в мертвенный свет, в белесую пелену бескрайней равнины, где синь и золото гаснут, где душа цепенеет, мертвеет, погружается в тень – навсегда.
Леон уже не слышал восторженного бормотания Чедрика:
– Я не задену его птичьего мозга… я осторожно, самым кончиком ножа…
…тот уже не берегся, безумец, уже не сдерживал голоса; готовился к жертве во имя умершего:
– Гюнтер! – вопил. – Гюнтер! Канарейка будет петь, ты слышишь? Она будет петь для тебя!..