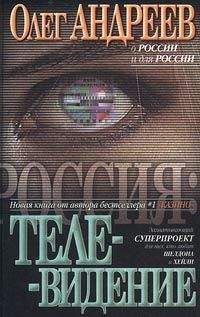Сначала он порывался лететь в Иркутск, спасать семью и вызволять Любочку. В порыве максимализма собирался даже везти ее с собой на Север, да побоялся по зрелом размышлении – и он ведь был не безгрешен. Хозяйка, пригревшая одинокого командировочного на своей пышной груди пятого размера, была, конечно, добрая женщина, но уж не до такой степени, чтобы без скандала терпеть при сожителе его законную половину. И тогда, по-мужски перебесившись и отстрадав, он поступил так, как привык поступать в затруднительных случаях, – махнул на всё рукой и пустил на самотек. Никуда не поехал, не побежал, остался работать до истечения контракта. Даже в отпуск не высовывался.
Жене исправно слал на новый адрес вежливо-нейтральные письма, почти одинаковые, взамен получал коротенькие торопливые ответы, путаные и восторженные, с двукратным «целую» в конце, а от тещи – редкие фотографии Илюшеньки, который с возрастом все больше темнел волосом и все меньше походил на отца. В остальном жил как жилось, хозяйку свою вниманием не обходил, но и не слишком усердствовал. Ревностно следил, чтобы, не дай бог, не забеременела. Однако у женщин свои хитрости, у тех особенно, чья молодость уже промчалась мимо, как товарный состав, и только последний вагон еще хвостик показывает. Хозяйке исполнилось тридцать шесть, она решила: сейчас или никогда – и вот, пожалуйста, ждала теперь ребенка, лила слезы, заглядывала в глаза, умоляла, товарищеским судом грозила. Так обидно – до конца работы оставалось всего ничего! Что было теперь делать? Да и привык он к ней. Обрюзг, посолиднел, стал ленив в движениях. Менять что-то в жизни было и тревожно, и хлопотно, к тому же северный рубль оказался на поверку вовсе не таким длинным, как Гербер рассчитывал, профессия не та, даже с учетом всех летних шабашек, – вот и ехал теперь разводиться. И понятия не имел, что скажет Любочке.
А Любочка за прошедшие три года превратилась в настоящую светскую даму. По крайней мере ей так казалось. Стала она теперь называть себя не О́бухова, а Обухова (ей, не знавшей о правиле последнего слога, казалось, что это на французский манер), и волосы укладывала в высокий гладкий пучок – для солидности. Ни одна вечеринка или выставка, ни один закрытый просмотр без нее не обходились. Она знала по именам всю иркутскую богему, со всеми была на короткой ноге.
Друзья из музыкального театра организовали ей маленькую роль в массовке, в спектакле «Принцесса цирка». Под самый финал, когда обман раскрывался и графиня стояла опозоренная на цирковой арене, Любочка выходила из кулисы на руках, плавно опускалась на мостик, а потом растягивалась в шпагате. На ней был облегающий гимнастический купальник, черный с искрой, и бархатная полумаска, расшитая блестками. Играть на сцене Любочке понравилось ужасно. «Ничего, – мечтала она про себя, когда со всеми участниками спектакля выходила на поклон, – пройдет время, и я еще сыграю главную роль. Без всяких ваших училищ. Дайте только срок».
Замужество Любочку не особенно тяготило. Она почти не вспоминала о нем. Только иногда, засыпая, мечтала, что вот придет с Севера письмо: «Ваш муж, Обухов Гербер Борисович, геройски погиб при исполнении обязанностей…». Каких обязанностей? Да какая разница! Просто обязанностей. Она бы тогда очень плакала и надела бы траур, а все бы ей сочувствовали. Да, так было бы лучше для всех. Любочка тогда вышла бы замуж за Яхонтова и стала бы женой уважаемого человека, артиста, а не какого-то учителишки сомнительного, на летних гастролях не пришлось бы им больше заказывать отдельные номера; в квартире на 5-й Армии она бы устроила всё по своему вкусу, на законных основаниях забрала бы Илюшеньку в город, а у Яхонтова выпросила бы наконец новую каракулевую шубу, про которую сказать стеснялась, – как у Сальниковой из Музыкального. Письмо, строгое и лаконичное, представлялось Любочке почему-то в виде обтрепанного военного треугольника. Она прямо видела синие аккуратные буквы на пожелтевшей бумаге в клетку, окропленные скупыми вдовьими слезами, но оно все не приходило, и Любочка ничего не предпринимала, а жила как живется и наслаждалась тем, что есть.
Яхонтов старел. Он стал быстро уставать, пошаливало сердце, суставы ныли на плохую погоду. И вместе со старостью к нему подступал страх, что Любочка его бросит, сбежит к молодому. Видел же, как смотрели на нее мужчины, – зрение ему, слава богу, еще не изменило. Он начал бояться шумных пьяных компаний и все норовил остаться дома, чтобы только он и Любочка, а третьим – разве что телевизор. Каждый вечер он ложился в постель, мучимый страхом оказаться не на высоте, недодать своей девочке, кровиночке, тепла и ласки, и то ли от возраста, то ли от страха этого все чаще случались досадные проколы, которые он неумело маскировал под любовную игру. Знакомя Любочку с новым человеком, он находил свое сердце в пятках, бдительно следил за каждым словом, за каждым жестом и взглядом, раздражался без видимого повода и первый от этого раздражения страдал, но поделать с собой ничего не мог. Он начал жалеть, что Любочка несвободна. Не будь дурацкого штампа в паспорте, женился бы, да и дело с концом. Все-таки это была хоть маленькая, но гарантия, что Любочка не соберет вещи завтра-послезавтра и не исчезнет, оставив его, обессилевшего, сгорбленного и седого как лунь, болеть и умирать в одиночестве. Конечно, она была не такая – Яхонтов видел, и верил, и любил всё сильнее… но всё же, всё же…
По всему выходило, что развод, к которому вконец перетрусивший Герой Берлина не знал, как подступиться, выгоден всем сторонам.
Сойдя с поезда, Гербер собирался сразу ехать в театральное училище разыскивать Любочку, чтобы уж отмучиться одним махом, вступить в этот неприятный разговор, как в ледяную реку Ангару, но постеснялся прочих студентов, прилюдного скандала побоялся. Представил, как приходит на какую-то лекцию, во время которой Любочка почему-то стоит на сцене в гриме и в платье начала XIX века, как поднимается к ней и начинает объяснять ситуацию, а она белеет лицом и падает в обморок, и зрители, сидящие в зале, свищут Герберу, шикают и топают ногами, а Любочка уже сидит на полу, рыдающая, и шепчет, заламывая руки: «За что, за что?!». Он даже представил ее большие выразительные глаза, наполненные слезами, – крупным планом, как в кино… Нет, никак нельзя было ехать сразу в училище.
Время было к обеду. Гербер нашел у самого вокзала какую-то сомнительную столовку, где решил пересидеть и подкрепиться. В столовке стойко пахло многажды использованной половой тряпкой, но кормили довольно сносно. Он без аппетита хлебал горячий наваристый рассольник, запивал компотом и все искал, какими словами начнет разговор о разводе, но подходящие слова не находились. Потом он расплатился, вышел, попил у ларька пресного разбавленного пива, цветом напоминающего перестоявшую заварку, купил вчерашнюю газету, посидел в скверике на скамейке, смотря мимо передовицы, сложил кораблик, выбросил его в урну. Чем ближе было опасное объяснение, тем страшнее и неуютнее Герберу становилось. Он расспросил прохожих, как отыскать нужную улицу, долго ждал трамвая, пропустил его, сочтя слишком переполненным, чтобы через сорок минут с титаническим трудом втиснуться в следующий, еще более набитый, вышел, не доезжая двух остановок, у маленькой уютной рюмочной, где заказал себе для храбрости сто грамм, а потом еще сто грамм, и еще, – пока нечистая совесть его не умолкла, уступив место бравурному, лихорадочному эмоциональному подъему.
Добравшись до квартиры зловредной бабки, Герой Берлина долго не мог понять, почему это Любочка давно здесь не живет, рвался войти в темный коридор, но бабка стояла как скала, грудью загородив проход. Наконец ей удалось вытолкать его на улицу, где он еще некоторое время топтался под одиноким фонарем, пошатываясь, и силился прочесть на клочке бумаги непослушные подпрыгивающие буквы. Он вышел на дорогу, поймал такси, сунул шоферу клочок с адресом и немедленно уснул, а спустя несколько минут, когда таксист с матюками вытаскивал его из машины, никак не мог сообразить, где находится и зачем здесь оказался в такой поздний час.
Холодало, и Герой Берлина потихонечку трезвел, разыскивая нужный подъезд. Снова подступал страх.
Дверь открыл Яхонтов. Гербер решил, что попал не туда, заизвинялся и собрался было уходить, когда в глубине темного коридора, в ореоле желтого света, льющегося из ванной в спину, появилась простоволосая Любочка в прозрачном воздушном пеньюаре и спросила с ноткой недовольства в голосе:
– Аркаша, кто там на ночь глядя?
Гербер был в бешенстве. Он себе много чего напредставлял за время пути, но уж точно не этого пошлого седовласого старца в полосатых пижамных брюках. Сначала он не находился что сказать, только задыхался от ярости и открывал рот, как живой карп на магазинном прилавке, а потом его будто прорвало.
Он громко, с надрывом выкрикивал Любочке разные оскорбительные слова, из которых самым мягким было «шлюха», топал ногами и бил в коридорную стену нетвердым пьяным кулаком, разбив костяшки в кровь; он кричал, что завтра же поедет в Выезжий Лог, заберет сына у ненавистной тещи, навсегда заберет, вырастит сам: нельзя доверять воспитание падшей женщине, и в этот момент представлял себя почему-то Карениным, а перепуганного старика, который пытался слабо, по-интеллигентски возражать, – коварным Вронским. Любочка горько рыдала, примостившись на югославском мягком пуфике под зеркалом, размазывала слезы тыльной стороной ладони и шептала, захлебываясь: «Ты сам, сам виноват, зачем ты уехал, зачем бросил меня одну?!», – кашляла, умоляла оставить сына в покое, и чем униженнее звучал этот едва слышный, стыдом и слезами напитанный шепот, тем увереннее чувствовал себя Герой Берлина – ему теперь не надо было оправдываться и просить прощения, а, наоборот, можно было расправить грудь колесом и чеканить в глубину коридора обличительное: «Я требую развода!». Про ребенка – это он загнул, для красного словца, и в страшном сне ему не могло присниться, что привезет он своей беременной и по беременности и без того нервной, до предела взвинченной хозяйке чужого пацана и заставит воспитывать. Красивый бы получился жест, да. Благородный. Но это было при сложившихся обстоятельствах абсолютно невозможно.