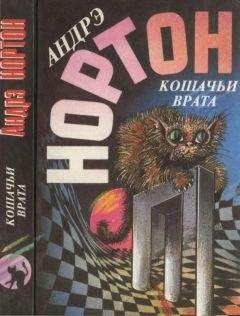Мама закрыла лицо руками, я поскорее обняла ее, и мы вместе всласть поплакали, дабы подвести черту под всей этой неприятной историей. Бимуля, сочувственно позевывая, повизгивая и подвывая, в меру своих сил и таланта помогала нам с коврика. В принципе, на этом можно было бы считать объяснение законченным, но я знала, что мама вряд ли успокоится: слишком много вопросов вызвал у нее мой короткий и, что греха таить, странноватый рассказ. Поэтому остаток воскресенья и весь понедельник я усиленно изображала полный флотский порядочек. Настолько усиленно, что поверила в него сама – насчет мамы я не уверена. Тем не менее, простые заботы по укладыванию рюкзака сделали свое дело: к моменту моего отъезда мамино давление пришло в норму.
Автобус в аэропорт уходил от нового здания института в девять утра; мама и Бимуля проводили меня до трамвая. Но чем ближе было время отлета, тем сильнее одолевало меня чувство тревоги. Я ждала подвоха буквально отовсюду: вот сейчас сломается трамвай, обрушится дом, разверзнется мостовая, упадет американская атомная бомба. Вот сейчас выяснится, что водитель автобуса в запое, что отменен авиарейс, что обледенела – это в июне-то! – взлетно-посадочная полоса. Вот сейчас мне скажут, что Лоська не приедет, что у него несчастье дома – мамаша имитировала инфаркт, или папаша удавился на своем флотском ремне, или еще какая-либо чума. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас…
Но секунды напряженно отстукивали минуту за минутой, час за часом, сейчас за сейчасом, а всё шло своим чередом, без подвохов и катастроф. Трамвай не только не сломался, но привез меня к институту быстрее ожидаемого и отбыл, бодро прозвенев пожелание удачи. Стены домов стояли, хотя и ощутимо покачивались под моим подозрительным взглядом. Мостовая держала, водитель автобуса сиял трезвостью, как стекла отмытых от зимы майских окон, а американские империалисты на время отложили бомбежку Города-трех-революций. Потом приехал Лоська и на мой тревожный вопрос, все ли в порядке, ответил утвердительно и даже несколько недоуменно, как будто иначе и быть не могло. До Пулково мы доехали также без происшествий. Оставалось лишь преодолеть предполагаемое июньское обледенение взлетно-посадочной, что и было, к моему радостному изумлению, с легкостью проделано доблестными работниками аэродромных служб. Мы даже взлетели без опоздания!
– Что с тобой такое? – спросил Лоська.
Он сидел со мной рядом – в точности так, как я рисовала себе в мечтах все это время. Мы летели на Кавказ, чтобы провести вместе целых два месяца. Мы долго шли к этому моменту, преодолевая множество препятствий, которые многим показались бы непреодолимыми. Монструозная мамаша, сессия, необходимость повседневного вранья, а под конец еще и милицейское следствие. И вот – мы рядом в самолетных креслах!
– Со мной? – переспросила я. – Со мной ничего. Полный флотский порядочек. А что?
Лоська пожал плечами:
– Не знаю. Какая-то ты… не такая.
– Устала. Переволновалась. Ты лучше скажи, как Валентина Андреевна? Неужели так ничего не заподозрила?
– После стольких-то проверок… – усмехнулся Лоська и погладил меня по руке. – А ты поспи, Саня. Устала, так поспи. Лететь еще долго.
Я послушно откинула спинку кресла и смежила веки. Сна у меня не было ни в одном глазу, но еще меньше хотелось давать объяснения. В последнее время я только и делала, что давала объяснения.
Я закрыла глаза, и вот тут-то меня и накрыло. Как видно, все тревоги последних двух суток, реальные и надуманные, были всего лишь способом занять, загрузить, оглушить голову – чем угодно и как угодно, только бы не оставаться наедине с пугающими вопросами о себе самой. Что я наделала? Кто я теперь? Что все это значит? Два дня я всеми силами отодвигала мысли об этом, прятала их за действительным беспокойством о маме, за болтовней с Бимулей, за вовсе уж глупыми фантазиями о сломавшемся трамвае и еще черт знает где. Отодвигала и прятала, но проклятые мысли никуда не уходили, не испарялись, а напротив, сжимались в пружину, копили энергию и ждали своего часа. И вот теперь, когда тревожиться стало уже не о чем, когда осталось расслабиться и насладиться сбывшейся мечтой, они разом хлынули в мою опустевшую беззащитную черепушку и затопили ее по самую маковку.
Неужели это я склонялась над умирающим человеком, хладнокровно шарила по карманам, шептала на ухо издевательские слова? Неужели это я убила его – убила намеренно, прекрасно осознавая это свое намерение? Неужели это я испытала то странное чувство, от воспоминания о котором у меня и сейчас перехватывает дух и непроизвольно напрягаются мышцы, – чувство радости, чувство охотничьего торжества, счастье удачливого убийцы? Неужели это была я, Саша Романова?
После бойни в квартире № 31 я еще могла уговорить себя, еще могла поверить в то, что эти смерти не связаны напрямую со мной. Или, точнее, что алкашей убила не я. Да, я скомандовала этим троим сдохнуть, и они немедленно сдохли, но «после» еще не значит «из-за». Допустим, я скомандую солнцу скрыться вечером за горизонтом – что же, это делает меня причиной заката? Нет, объяснение происшедшему следовало искать совсем в другом месте – более естественном и простом. Люди не умирают от того, что кто-то мысленно приказал им умереть – такого не бывает даже в самых фантастических сказках. Хватит, довольно глупостей!
– Хватит! – говорила тогда я-умная своей глуповатой двойняшке. – Прекрати уже приписывать себе какие-то сверхъестественные способности. Глянь в зеркало: кого ты там видишь? Кругленькое личико в кудряшках, нос картошкой, в глуповатых карих глазах – растерянность и страх. Эта физиономия, по-твоему, похожа на облик могущественной ведьмы-колдуньи? Эти зрачки способны кого-то загипнотизировать? Этот голос способен командовать кем-то? Да твоих команд даже Бима не слушается, если они не подкреплены колбасой! А тут даже колбасы не было – вернее, бутылки. За бутылку-то эти ханыги еще, может, что-то сделали бы, но так, задарма…
– Отчего же они тогда умерли? – следовал робкий вопрос от меня-глуповатой. – Почти как в сказке: жили несчастливо и умерли в один день…
– Вот видишь?! – выходила из себя я-умная. – Видишь?! Ты ведь понятия не имеешь, как они жили. Не умеешь, а судишь: несчастливо! А может, они как раз были очень даже счастливы. Ну, по-своему, по-ханыжному… Не суди о том, чего не знаешь – слыхала о таком правиле? Вот и тут не суди. Отчего они умерли… Милиция разберется! У милиции сыщики, у милиции эксперты, как по телевизору. Следствие ведут знатоки. Ты, может, знаток? Да из тебя знаток, как из козы зебра. Вот и не лезь рассуждать о причинах. Поняла, дура?!
– Поняла.
Что ж, в этих доводах и в самом деле было много логики, так что неудивительно, что они меня убедили. Тем более, что вскоре мне стало не до того – в голове завертелись иные мысли, иные заботы: Кавказ, Лоська, сессия… Да-да, сейчас трудно представить, но в те дни я почти начисто забыла о квартире № 31. Даже первая встреча с Павлом Петровичем Знаменским не слишком сбила с меня эту странную забывчивость. Хотя, почему странную? Это ведь так естественно, что мне не хотелось возвращаться к тем событиям, заново переживать тот ужас… Вполне возможно, что если бы не последний допрос, я так бы ни разу и не вспомнила об этом. И вот… и вот случилось то, что случилось.
В то воскресное утро накануне отъезда на Кавказ оперуполномоченный Знаменский в пух и прах разбил мои «умные» доводы. Милиция таки разобралась – в точности, как я и предполагала. Были опрошены свидетели, призваны на помощь эксперты, подняты старые дела, составлены версии. Вот только результат оказался иным – не таким, какой мне хотелось бы видеть. Как там сказал покойный капитан? «Семидесятитрехлетний старик-сердечник с дрожащими руками и больной печенью, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, не мог провернуть такую высокопрофессиональную ликвидацию…» – что-то в этом духе. Иными словами, у милиции не было того естественного и простого объяснения, на которое я рассчитывала. Но тогда какое же объяснение оставалось, помимо сверхъестественного? Никакого.
По сути, Знаменский доказал мне это, как дважды два. Вы и убили, Александра Родионовна, вы, и некому больше… Я, и некому больше.
Когда он сказал это, меня как громом ударило. Не потому, что я испугалась последствий, а потому, что теперь это было произнесено вслух, обозначено словами, а не текучей, неуловимой, ускользающей мыслью. А правда, обозначенная словами, становится фактом. Я – убийца.
Сейчас, сидя в самолетном кресле, я вновь и вновь прокручивала в памяти тот момент. Помню, я огрызалась в ответ на обвинения, которые продолжал выдвигать оперуполномоченный, даже, по-моему, хамила. Но я делала это, скорее, машинально, ведь моя голова была занята совсем другими мыслями. Помню, что какая-то моя часть – по-видимому, глупая – немало удивлялась тому равнодушию, с которым известие о моей преступной сущности было воспринято другой моей частью – по-видимому, умной.