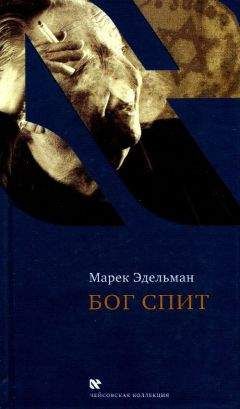В конце одной такой оргии Гиттис вместе с двумя девушками удалился на пляж, прихватив бутылку шампанского. А несколькими днями ранее он приметил недалеко от берега подводный камень. Какое-то пятно темнело в толще лазурного штиля. Этот смутный объект подспудно захватил его сознание и мучил несколько дней. Но взять где-нибудь маску, пойти еще раз на пляж, заплыть за буйки, разглядеть подробности – он ленился.
Так вот, иногда во время занятий мучительное подводное пятно всплывало перед его глазами то сундуком тусклых драгоценностей, то огневой башней торпедного катера, то головой гиганта, погруженного по шею в грунт, – головой с тихо качающимися водорослями волос. В тот вечер, крепко выпив, Гиттис прихватил с вечеринки двух девушек, которыми угощала своих участников программа «Президент», и отправился на пляж. Нетрезвый план его был нелеп: засунув в трусы бутылку, доплыть до подводной скалы и, найдя в ней опору, предаться возлияниям. В темноте Гиттис то ли не сумел отыскать камень, то ли глубина над ним слишком была велика, не достать на цыпочках, – и попытался откупорить бутылку на плаву. Вылетевшая пробка попала одной из девушек в глаз. Началась истерика.
– Я чуть не утонул, они стали хвататься за меня, кричать, тянуть на дно.
– А что с девушкой, что у нее с глазом? – спросил его Королев.
– Не знаю, – возмущенно ответил Гиттис, – я еле от них отбился.
Королев был исполнен неподотчетной ненависти. Он мучился ею, понимая греховность этого чувства. Он даже пробовал молиться, как умел, прося смиренья. Не помогало. Ненависть его, словно дар свыше, шла через него потоком горячего света. Ему было горячо в нем и по ночам, в которые ему попеременно снились два революционных сна, всё время уточнявшихся, вынимавших из него душу. Первый относился к странному житью на берегу Каспийского моря, вместе с кучкой армян-подпольщиков, хоронящихся от полиции на прибрежной даче. Апшеронский полуостров, с веранды вдали сверкает море, сад полон смокв и абрикосов, лучистая листва наполняет сферу взгляда, мелкий залив, поросший тростником, выходит к забору. Главарь подпольщиков вдруг получает известие, что англичане, вместе с мусаватистами опрокинувшие Бакинскую коммуну, арестовали комиссаров и теперь везут их на пароходе в Красноводск. Королеву поручается срочно погрузиться в ялик и плыть на опережение через весь Каспий, чтобы успеть организовать на том берегу революционные массы туркменских кочевников – и отбить у англичан наших героев… Королев налаживает паруса. Ему страшно. Товарищи толкают лодку по мелководью. Главарь – тихий и твердый седой человек в золотом пенсне, – чтобы напоследок успокоить Королева, протягивает ему книгу, ведет пальцем по оглавлению и говорит:
– Не бойся, всё будет хорошо. В двадцать второй главе тебя выпустят из плена, – говорит он, отчеркивая ногтем строчку.
– А комиссары? – спрашивал его Королев.
– Их расстреляют. Но это ничего не значит. Ты обязан их спасти. Плыви! – И каждый раз за жестом главаря Королев тянулся вдаль, тихим ходом распутывал зигзаги залива – полные паруса при совершенном штиле давали уверенную тягу, и каждый раз он замирал при виде выхода в открытое море, свободно гулявшего на просторе набегом качки, разверстых меж пенистых волн могил, – и сон обрывался на бесконечном ужасе то над вздымающейся, то над падающей в дымящуюся брызгами пропасть лодки, на том, как руль каменеет и заламывает руку, как хлопает парус, как рангоут бьет его по темечку на перемене галса…
А второй сон ненависти был еще мучительней. Королев в нем оказывался мичманом на броненосце, стоявшем у берега под яростным солнцем на стрельбах. Раз в час грохал пушечный залп, от которого глохла вся команда, – и с противного борта отрывался набег волны, набранной инерцией отката. Королев был на этом броненосце одним из активистов революционного подполья. Вместе с товарищами они задумывали бунт, в результате которого броненосец должен был превратиться в летающий остров, в дирижабль. По ночам Королев вместе с другими вынимал из рундуков свитки шелковой ткани – и они шили что-то громадное, путаясь в чечевичной форме кройки, долго шепотом выясняя геометрию сшива, расправляя в тесноте лоскуты, клеенчатые аршины. Шили они не то гигантский саван на всю команду, на корабль, не то возносящийся купол, который наполнялся из труб паровой машины горячим тяговым воздухом – для взлета… Вдруг капитан решает наградить команду за стрельбы борщом – и снаряжает мичмана на канонерке за говядиной. И вот тянутся сто морских миль в Одессу, канонерка бежит туда и обратно все сутки, рассекая кефалевым телом волну – и превращаясь то в деревянную рыбу, то в живую, с которой Королев вдруг в недоумении соскальзывал, срывая ногтями крупную чешую. На базаре в Одессе долго ходил, подбирая сходную цену, – и потом тащил на себе телячью тушу, задыхаясь от сладковатого запаха синего, уже обветренного мяса, отмахиваясь загривком от гремящих мух, которые блистали изумрудными дугами, будто дирижируя тяжким его проходом. И как потом лежал вместе с тушею на леднике, в трюме, воняющем машинным маслом, рвотой, прокисшим хлебом, как шуровали всполохи в кочегарке, выхватывали катающиеся от качки ведра, бочки, рухлядь, как черные кочегары склонялись в протуберанцах шара топки, будто человечки в желтке луны; как крыса вкрадчиво подбиралась к его ляжке, сначала царапала брючину, взбиралась, грызла, но, наткнувшись на дерево, переходила на говядину, – и лед, подобравшись к паху, вползал в его тело, грудь прозрачнела, мертвела… И вот борщ сварен, команда ушла в отказ от несвежего мяса – и всколыхнулась стрельба, кутерьма подхватила, вынесла мичмана из трюма в главари. Бунтующая команда понесла его на руках на капитанский мостик – и оттуда все они наблюдали, как матросы расправляли полотно, как вздымалась блестящая его волна, наполняясь свежим ветром, как под неполной сферой заворачивали в оставшиеся лоскуты капитана, других убитых офицеров, как вязали к ногам колосники, как переваливали тела за борт… И последнее, что он видел перед пробуждением: вздыбившийся в небо корабль полным ходом шел под белоснежным, гудящим от полноты тяги куполом, – и вдруг всё проваливалось, и мостик пикировал вниз, рассыпаясь обломками, вымпелами, телами, – и там, внизу, хлопал парус, концы под шквалом хлестали в виски, длинные патлы тонущего старца срывались в лицо с гребня волны, пахло йодом, волна вновь запрокидывала нос, и рангоут при смене галса бил привязанного за ноги к мачте мичмана по мертвому затылку…
С этим нужно было что-то делать, и тогда он решил погасить разрушительную составляющую ненависти пониманием. Подобно тому как нервозное влечение к шлягеру, раздражающему слух, изживается тем, что перестаешь отмахиваться от песенки и наконец вслушиваешься в нее, вдумчиво проговаривая все строчки, и пониманием бессмыслицы изгоняешь дразнящую заинтригованность, – так и он тогда стал вникать в свою ярость.
Для начала прочел «Капитал». Книга понравилась, но не воспламенила. Затем изучил современную политэкономию, микро– и макроэкономику. Обнаружил, что Норвегия – социалистическое государство: там идея Маркса о включении части прибавочной стоимости в зарплату трудящихся стала национальным обычаем. Вдохновившись этим знанием, Королев решил поговорить с Гиттисом, чтобы тот включил часть своей спекулятивной прибавочной стоимости в его зарплату. Королев не помышлял о тридцати двух норвежских процентах. Он думал хотя бы о пяти – притом что, как ни скрывал от него Гиттис, он все-таки знал, что маржа при отправке в труднодоступный Январск составляла сто, а в случае дефицита – и двести, и триста процентов. Королев не сомневался в целесообразности разговора, ведь ему на месте Гиттиса было бы важно, чтобы основной его работник оставался доволен жизнью.
Но Гиттис не понял, о чем пытается с ним говорить Королев.
– Да ладно, старик, брось. Дыши проще, – Гиттис хлопнул его по колену и вышел из машины.
Разговор этот заронил Королеву в душу грубость, которая скоро дала о себе знать.
Олигарх, глава жизнетворной нефтяной компании, приезжал в Январск дважды в год. Ради этого там построили гостиничную виллу. Всякого рода ширпотреб для нее поставлялся через контору Гиттиса. Среди прочего Королев закупил и отправил тысячу горшечных растений – от подснежников до гигантских кактусов, десяток кальянов и контейнер постельного белья. Вилла была почти готова к приему гостей, когда Гиттису поступила информация, что олигарх прилетает через два дня, а в комнате отдыха при сауне до сих пор нет нардов, без которых хозяин не мыслил своей жизнедеятельности.
Два дня Королев метался по Москве в поисках нардов из красного дерева, с дайсами и фишками из слоновой кости. Гиттис звонил каждые полчаса и закатывал истерику.
Наконец Королев примчался в аэропорт с двумя драгоценными коробками, чтобы отправить их в Январск срочным грузом, вместе с пилотами. Оставалось заполнить транспортную накладную. Уже вися грудью над прогнувшейся от напора воздуха финишной ленточкой, Королев замешкался и в графе «Наименование груза, описание» крупно вывел: «НАРЫ СБОРНЫЕ, КРАСНОЕ ДЕРЕВО».