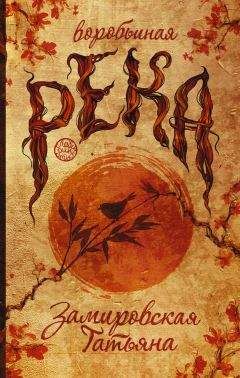Правда, вечером, получив от Ляли по розовой коробке с чем-то гремучим и резким, как духи, мы заметили, что вчерашних коробок у нас нет, они будто испарились.
Кажется, только через три или четыре дня, когда мама в очередной раз накормила нас картофельным пюре с вымоченной в подкисшем яблочном соке селедкой, мы поняли, что на самом деле происходит.
Мы разыскали их в одном из подъездов, где они сидели на лестнице и медленно-медленно, как во сне, целовались, и попросили ее выйти к нам на пару минут, объяснив это тем, что мы ведь дружили с детства и, по идее, положено попрощаться перед завтрашним самолетом, ведь воспоминания детства не должны иметь ничего общего с этим травматичным всплеском физиологии, нагрянувшей трагедией внезапной страсти, любви до гробовой доски или как минимум до получения посадочного талона – в какой момент человек перестает быть собой? Когда получит посадочный талон? Когда самолет оторвется от земли? Уже после приземления?
Ляля вышла к нам бледная, ее будто лихорадило, ее щеки то вспыхивали алыми кровяными семафорами, то снова превращались в жилистый мрамор, усыпанный синими подкожными веточками и снежинками.
Мы, конечно, сказали ей, что поняли все про эти коробки и что мы впечатлены тем, что у нее, оказывается, все получилось. Очень мягко попробовав объяснить, что нас этот вариант не устраивает и жить этот последний день нам, пожалуй, слишком тяжело.
Спасибо, нас больше не надо.
Ей было тяжело это принять, мы это сразу поняли, но что поделать: поднималась на цыпочки, тяжело прижималась к нам своим тугим, каменным от сердечной боли, сведенным судорогой животом, что-то шептала каждому в шею, задавала бессмысленные уже вопросы, ответы на которые знала изначально: мы не хотели в этом участвовать, мы прожили ее всю целиком и отпустили, выстрадав этот разрыв заранее, целиком и навсегда, и мы были уверены, что справимся. Если избежать расставания можно только таким способом, то мы согласны на расставание – это больно, это страшно, но этот вариант – больнее и страшнее.
Ляля согласилась с нами, но тут же испуганно добавила, покосившись на стоявшего где-то в глубине подъезда хмуро ожидающего ее Лешу, что у нее не очень получается с коробкой памяти именно для него – с нами все сработало сразу же, и дело тут, разумеется, вовсе не в любви, а в тонком ее, старательном, невозможном умении начинить эту капсулу безвременья квинтэссенцией себя и своей маленькой, компактной, идеально завершившейся на этом бесконечном последнем дне жизни – но вот с Лешей почему-то не выходит, и она каждый день экспериментирует, что-то перекладывает, подклеивает, но не получается.
И каждый последний день он приходит в хлебный магазин, где встречает ее впервые, и его глаза наполняются слезами узнавания и ужаса.
Мы понимали, что Ляле невыносимо больно каждый раз сталкиваться с этой невозможностью непрерывности существования в этой финальной точке, но пример с нами не дает ей покоя, и невозможность провернуть то же самое с Лешей заставляет ее пробовать снова и снова. Она пыталась подарить Леше одну из коробок, предназначенных для нас, но ничего не получалось – следующим утром мы встречали ее во дворе, заплаканную и беременную, с неизменной зеленой сумкой, и говорили ей, что вчера снова было это отвратительное селедочное, кислое сегодня, и что у нас больше нет сил, уходи, пожалуйста, улетай уже поскорей, еще одно расставание мы просто не перенесем, пожалей нас.
Но она нас не жалеет. И отчаянно пытается понять, что она делает не так, почему каждый вечер прощается с тихим измученным Лешей навсегда, вкладывая в его почти кровоточащие, исцарапанные струнами и ее маленькими ногтями ладони розовую коробку, перевязанную капроновыми колготами и нашпигованную перьями и тетрадями, но это не помогает, и снова приходится проходить через мучение знакомства, травму первой встречи навсегда, этот его влажный, как сырое телячье сердце, ядовитый взгляд кромешного узнавания того самого человека, узнать которого по-настоящему ты уже не успеешь никогда.
Через неделю мы взмолились, сообщив Ляле, что больше не можем в этом всем участвовать: в конце концов, мы тоже ее любим, неужели нужно мучить нас так долго, пока все не устроится окончательно. Мы, безусловно, предпочли жить дальше, справляясь с утратой и переживая ее внутри жизни, а не этого прощального Лялиного кошмара в сутки величиной.
Ляля рассудила, что это достаточно честно – осознав, что сохранить нас в своем хрустальном мире не получится, она предположила, что неуспех с Лешей отчасти благодать свыше: невозможно предположить, как он себя поведет, когда с ним тоже все получится, не попросит ли избавить его от вечернего подарка смертной памяти, не предпочтет ли, как и мы, распрощаться по-настоящему навсегда, раз уж так суждено – жить дальше.
Мы поинтересовались, почему у Ляли не выходит остаться в каком-то другом дне, не последнем. Ляля ответила, что не получается, только один раз получилось, но на шесть месяцев назад, но ничего не вышло, то есть нет, вышло, но не то. И она положила обе руки на свой живот. Осознание того, что она, возможно, так и не обретет невротичного и трепетного счастья материнства, ее, казалось, не пугало – к неудобному, как огромный остроконечный овощ, животу она привыкала тем больше, чем неудобнее и плотнее он становился, и перспектива провести свою персональную вечность в бесполезном ожидании того, что вряд ли случится, ее пугала намного меньше, чем неизбежная необходимость прожить чужую жизнь, пусть и с желанным ребенком от, как мы теперь поняли, любимого человека.
Понять и осмыслить ее выбор, если честно, было невозможно, но настоящая дружба почти всегда заключается в готовности безоговорочного принятия любого, даже самого невообразимого выбора близкого человека – поэтому мы просто приняли все, как есть. Наш выбор она тоже приняла.
Мы ушли домой без привычных розовых прощальных подарков, обняли ее с двух сторон – спереди и сзади – постояли так с минуту и убежали, не оглядываясь, потому что мама, как обычно, выла свое селедочное обещание сквозь текучий вечерний воздух, и не стоило ее злить, ведь завтра будет новый день, без селедки, без Ляли, и в каком-то смысле без смысла вообще. Зачем Ляля с ним это делает, мы не очень хорошо понимали, все-таки мы не были такими же взрослыми, как она – но, если ей так страшно, что ж, пусть делает. Если у нее хоть что-то получится, мы будем искренне за нее счастливы.
Ровно в десять мы проснулись от рева самолетного двигателя где-то в подземном мире. Ляля, ее папа и мама уехали навсегда. Этот день все-таки наступил. Мы хорошо к нему подготовились, но во всем звенела боль: никто не стоял во дворе с зеленым пакетом, не горели вечерние окна в их квартире, не ради кого было бродить босиком по лужам. Теперь у нас будет, как и у всех, скучная, обычная и непрерывная жизнь.
Правда, если честно, это была вовсе не такая ужасная жизнь, как можно было предположить.
Лешу мы больше не встречали. Однажды мы зашли в его двор и спросили у пацанов, сидящих на лавочке около подъезда с гитарами, куда делся Леха Патлатый, получив невнятный ответ о том, что Леха пропал несколько месяцев назад и объявлен в розыск. Может, поехал автостопом в Питер, давно вроде собирался. Мы переглянулись: что ж, у нее все-таки ничего не получилось. Или, наоборот, получилось. Мы, во всяком случае, сами выбрали никуда не пропадать и жить дальше. Возможно, в будущем мы даже поедем автостопом в Питер из уважения к тихому мучающемуся Леше, который не сделает этого уже никогда.
Потом, лет через 20, когда мы вернулись в родной город на очередные похороны, мы узнали от каких-то тряпичных полуродственников, что Леша тогда и правда куда-то уехал в приступе отчаяния, а Ляля, став взрослой, счастливо вышла замуж и живет с тремя детьми (того, первого, случайного уличного малыша они отдали, ведь тогда ей, бедной девочке, с придыханием говорили они, было только едва-едва пятнадцать) и толстым, как и она сама теперь, мужем (видели в социальных сетях фотографии, «одноклассники», что-то еще) где-то под Чикаго. Или в Вермонте. Или все-таки под Чикаго. В общем, какая-то обычная скучная история. Или в Вермонте. Наливай, Володя, наливай.
– Ты этому веришь? – спросил один из нас у другого из нас.
– Нет, я им не верю, – ответил другой из нас.
Получается, что Ляле, нашей волшебнице луж и фее отъездов, мы верили всю жизнь – даже в той жизни, где ее уже не было.
И в этом смысле у нее все получилось: и память, и бессмертие, и, возможно, все то, на что мы так и не отважились и поэтому не можем это ни назвать, ни вспомнить.
Четыре письма четырем адресатам
Письмо первое
Ты просил, чтобы я никогда не писала тебе ничего, особенно огромных литературных писем. Так и сказал, «огромных литературных», будто я специалист по огромным литературным письмам и наверняка зарабатываю ими на жизнь, обеспечивая наивных влюбленных бешеной, как мчащий по горящей степи табун, перепиской за соответственно безумные деньги, но, к сожалению, мой язык запечатан судорогой, челюсть сведена неразрешимым спазмом, а все слова, которые остались в моем распоряжении, можно легко сосчитать по пальцам одной искалеченной руки: метеорит, электричество, погоня. Но, к сожалению, в погоне за этим невесомым электричеством немоты я растеряла преступно немного информации, будто недостаточно старалась – например, я помню твой адрес; его легко вспомнить, потому что дом как будто соседний с моим, а квартира как будто половина моей. Что поделать, мне больше нечего писать на конвертах.