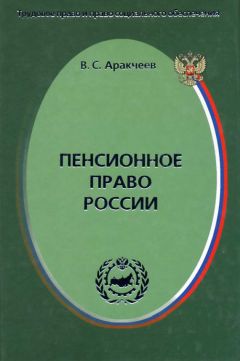Ознакомительная версия.
Подошли к нашей комендатуре. Часовой стоит. Наш, родной, советский! Чуть не бросились ему на шею. Нельзя, однако, на посту человек находится. Голоса наши дрожат, перебиваем друг друга. Мол, из лагеря мы, так и так! А все дрожит, зубы об зубы бьют!
Адам умолк. Взял в руки чашку с чаем, только что налитым ему Гулей, и чай заплескался, падая на скатерть и обжигая его толстые дубленые пальцы.
– Чего же мы чай не пьем? – видя волнение Адама, поспешил сказать Павел. – Давайте пить, а то он стынет.
– Правда, правда, а то совсем остынет, – понимающе поддержала мужа Гуля.
Адам ничего не сказал. Прихлебывая, он пил горячий душистый чай, глядел в полосы солнечного света, голубые от дыма, и видел все, что было в тот далекий день в советской комендатуре того маленького польского городка…
XXVII
…Был теплый январский день, один из тех случающихся иногда зимою дней, когда солнце, будто перепутав время года, греет по-весеннему щедро. Дорожки и дороги подтаивали, и из снега, особенно по обочинам и колеям, оправленная прозрачно-дымной наледью, выступала черная мокрая земля, и легкий светлый пар вился над нею. Яблоки конского навоза, в обилии рассыпанные вдоль улицы артиллерийскими битюгами, размякли, и лохматые отощавшие воробьи, прыгая по дороге, выклевывали из них зернышки овса, весело бросаясь в драку друг с дружкой. В воздухе крепко и молодо пахло талым снегом, разгоряченными лошадьми, корою тополей, высоко стоявших по всей улице, старых белых тополей, блестящих на солнце мокрыми лакированными ветками.
Мимо разбитого закопченного костела, внутри которого на черных стенах запечатлелись навечно светлые тени сгоревших в нем прихожан, мимо красноватых руин кирпичной водонапорной башни спускались они вниз по улице к особняку, в котором разместилась советская комендатура.
– Да подожди, Славик! Не поспеваю за тобой, подожди! – просил запыхавшийся Алексей длинноногого Славика. Совсем непонятно, откуда они находили силы, но оба они почти бежали уже примерно с километр, с самого начала предлинной улицы. Они бежали, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, ничего не примечая вокруг, верно, оттого, что души их летели впереди, замирая от восторга близкого счастья, самого большого счастья, которое может испытать в этой жизни истинный человек, – счастья вновь влиться в ряды своих соотечественников. Пять месяцев они пробивались к этому польскому городку, не зная даже его имени, пять месяцев ползли они по чужой земле к этой чуждой улочке с сожженным костелом и нерусскими тополями, ползли голодные, холодные, еле живые, таща на своих занемевших плечах безмерный ужас немецкого плена. Пять месяцев – сто пятьдесят дней и ночей – шли они словно над нескончаемой бездной, и каждая секунда пути могла для них стать последней секундой жизни. Живые лишь духом, они отчаянно пробивались навстречу своему, русскому, советскому, бесконечно родному солдату. И вот он стоит перед ними…
Он стоял на улице у входа во двор комендатуры, у узкой каменной арки. Рослый, молодой, краснощекий, в новой, еще не обношенной, стромкой шинели, туго подпоясанной желтоватым кожаным ремнем, в высоких яловых сапогах, начищенных до блеска и чуть затуманенных теплым воздухом; на его широкой выпирающей груди ловко висел вороненый, хорошо ухоженный ППШ, на новой шапке ярко горела эмалью алая звездочка. Такого солдата рисовали на плакатах, именно такого парня видели в своих прерывистых снах во время побега Алексей и Славик. Судя по тому, какое новое обмундирование было надето на часовом, неопытный глаз мог бы отнести его к числу новобранцев, но Алексей сразу угадал в нем старослужащего, привыкшего к войне парня, угадал это он по той осанке, которая была в часовом с головы до ног, по тому, как ловко пригнано было на нем обмундирование, по тому, как, широко расставив ноги, по-хозяйски, небрежно стоял он на посту. Просто это был щеголь, прижимистый, оборотистый, хозяйственный деревенский щеголь. Алексей видел таких раньше, они могли перед смертной атакой выменивать свои худые сапоги на более лучшие, а выменяв, бережно клали их в вещмешок, а в атаку шли в рванье, которое где-то доставали. О смерти своей они, эти люди, никогда не думали, и не потому, что не боялись смерти, а потому, что натуры их были для этого недостаточно высоко организованы. Но все это Алексей оценил машинально, в какую-то долю секунды.
А часовой без всякого внимания поглядел на Алексея Зыкова и на Славика. Видно, не признал он своих в этих доходягах, наряженных в полосатые балахоны. Не признал. А они готовы были броситься на его крепкую малиновую шею, туго сдавленную белой каемкой подворотничка, в который, угадал Алексей, была продета круглая изоляция телефонной проволоки, чтобы подворотничок был ровен и красив.
Алексей и Славик от волнения, стеснившего их грудь, и от быстрой ходьбы не могли вымолвить слова и стояли перед часовым, глядя ему в лицо горящими глазами. А часовой, видя, что они остановились непочтительно близко и тем самым прервали его приятные размышления о родной деревне Селезёнкино, поглядел на них строго и, поведя автоматом, пробасил:
– Ну-у! Чаво встали! – Больше говорить ему было лень, и он отвернулся, уверенный, что «эти голодные полячишки» пройдут своей дорогой, а русским языком им все равно не дотолкуешь, и вернулся к нарушенным мыслям о своей деревне Селезёнкино, о том, что война уже скоро пройдет, о том, что хорошо бы у ефрейтора Федькина «вымануть» кожаный баул, потому что он очень легкий и много барахла можно в него «запхнуть», о том, как он будет первые месяцы сидеть на посиделках сразу с охапкой девок и как, «набаловавшись», осчастливит какую-нибудь из них законным браком туда к зиме поближе. И сейчас он, сладко напружинив свою сильную грудь и сильные толстые плечи, с удовольствием думал о том, как они заживут «самостоятельно», и какая здоровая, ядреная девка будет его жена, и какие сытенькие и веселые будут у них дети, и как по всей деревне будут уважать его за медали, за то, что вернулся живой и сильный, за то, что хозяин…
«А с Санькой надо в раздел итить, их всех не прокормишь. Ну, ему бритва с полной принадлежностью – это раз; ну, жене его канбинацию – два; ну, там детям – гостинцы, мамане – шальку, папане – табаку, и шабаш!» – размышлял он о том, что, когда вернется, надо будет непременно делить дом со старшим братом Санькой, который уже год, как вернулся домой с фронта без обеих ног, думал о том, как, кого он одарит и чем; когда он думал о подарках, ему было очень все-таки приятно свое великодушие и доброта, он ясно видел перед глазами и прекрасную бритву с никелированными чашечками и красивейшим помазком, и темно-зеленый шерстяной полушалок, и голубую шелковую дамскую комбинацию – словом, все те вещи, которые были уже у него среди других вещей и которые он думал довезти домой. А когда он думал о Саньке, в душе его шевельнулось неодобрение и даже раздражение на ту безответственность, которую проявил его «братан» тем, что, вернувшись калекой, прибавил к своим троим детишкам еще и четвертого – Ваську. «И на чаво он надеется?» – подумал он с опаской и неприязнью о своем старшем брате.
Может быть, минуту, а может быть, две Алексей и Славик боролись со спазмой в горле и собирались с духом, чтобы заговорить, все это время неотрывно глядя на часового, который не обращал на них никакого внимания.
– Милый человек, свои мы! Русские мы! С плену! – быстро шагнув к часовому и желая обнять его, глотая слезы, придушенно заговорил Алексей.
– Ну! Ну! Эй! – шарахнулся в сторону часовой. Он уже забыл о «худобах в балахонах», и теперь эта неожиданность его даже испугала, у него даже под сердцем вроде что-то оборвалось. – Ну, ты полегше, папаша! – придя в себя, оттолкнул он Алексея в грудь. – Полегше, за автомат не цапай! А то пряшью на месте – и прав буду! Видали мы вас!
– Мы из Освенцима! Мы советские солдаты! Бежали из лагеря! Пять месяцев! – захлебываясь, дрожа всем телом, заговорил Славик. – Мы свои, понимаешь? Что же ты своих не признаешь?
– Нам в комендатуру, – сказал Алексей.
Часовой молча, но уже внимательно оглядел их обоих с головы до ног, как будто обшарил.
– Кульков! – крикнул он затем, обратясь во внутрь двора. – Кульков! Проводи этих! Идите! – кинул он Алексею и Славику, показывая дулом автомата во двор.
Алексей и Славик прошли во двор, а часовой, недовольно перемявшись с ноги на ногу, поглядел на свои добротные новые сапоги и вернулся к «дельным» мыслям о том, что «хорошо ба у ефрейтора Федькина кожаный баул вымануть».
От каменного сарая с почерневшей от стаявшего снега черепичной крышей, неловко переваливаясь с ноги на ногу, ковылял им навстречу маленький, старенький, замухранный солдатик. Белесая, выдутая ветрами, лысая и зашитая неровными углами в нескольких местах шинель неловко болталась на нем едва опоясанная, шапочка на его голове была смятая, с засаленным верхом, и звездочка на ней потемнела.
Ознакомительная версия.