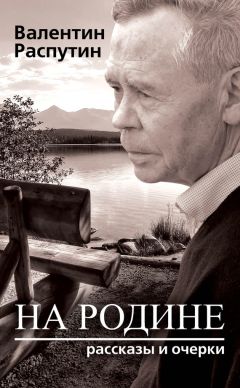– Отвяжись ты!
– Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за огороды убежать – коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, а сам каким-то хлобыстьем по окошкам пройдется и кричит: «Марья-а!» – Они все за ним дурноматом: «Марья-а!» – «Ежели четверть самогонки сей же час криволуцкому народу не представишь – раскатаем твою избенку до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макаром.
– И представляла? – спрашивал я.
– А было. Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни молока не дождешься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волоса трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся напружится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки же, нисколь не лучше. Представляла, как не представляла. Жить-то охота.
– Слушай ты ее, – с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть и подправленное в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зарделось. – Слушай, она нагородит. Сама за ворота выходила и сама зазывала. А наш, он в праздник разгуляться любил, он коня приворотит…
– Я сама зазывала?
– Да не я же… Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.
– Вытребуете, дай и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.
– Кричали-то так, для потехи. А у тебя уж все готово, ты уж с утра ждешь.
– Ишь че! – оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. – У меня семья голодовала, а я на них наготавливала, на всюю ихую рать. Ишь че!
– А ты такая всегда и была.
– Какая такая?
– Простодырая.
Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, и, сбившись, оборванно досказала:
– И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то уж сильно приустанет, головушку свесит, а они округ его, они округ его… Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех боков подпирают. Они бы, однако, волосья друг дружке повыдирали, если бы он свалился.
– И верно, ему нельзя, он председатель.
– Они при нем на нормальных баб нисколь не походили. Не знаю уж, на кого походили, а на себя не походили.
– Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, чтоб работали. Много годов под один запал. А после-то уж че, после не работа была, а так… хозяйство да заделье. После-то уж впрохладцу жили…
И это говорила она, тетка Улита, которая за всю свою жизнь ни дня единого не провела без плотной работы, которая до последнего часа в семьдесят с лишним лет не расставалась с коровой и накашивала на нее без помощников, обихаживала немаленький огород, чтобы по осени, десятки раз сбегав на берег и договорившись наконец с баржой, отправить сестре и племянницам в город картошку и все остальное, таскала, выгибая спину, мешки, помогала другим, кто с той же баржой тоже кому-то отправлял, а проводив баржу и перекрестив ее вслед, торопилась подхватить следующее дело. Мало того – она еще и в няньки нанималась, чтобы заработать копейку, потому что на колхозную пенсию, которой едва хватало на соль да на спички, учившейся в городе племяннице модные сапоги было не справить. Но это уж надо было видеть, как нянькается тетка Улита. Я по соседству видел, и я этого ввек не забуду. Притащив от молодых родителей мальчонку, которому, кажется, не исполнилось и годика, тетка Улита стянула с него штанишки, чтоб не портил добро, нажевала, припомнив собственное детство, хлеба, затолкала эту кашицу мальчонке в рот, сунула ему в руки сковородник и убежала к скотине. Меня поднял из своего дома напротив крик – сначала сильный, возмущенный, затем все более и более переходящий в жалкое попискивание. Я перешел через дорогу, заглянул в избу и натолкнулся на мальчонку возле самого порога, который он не мог преодолеть только потому, что вконец обессилел от крика. Оттащив его от порога, я попытался успокаивать – не тут-то было! Тетку Улиту я отыскал в стайке, где она что-то подправляла.
– Тетка Улита, ведь он же кричит. Ты что его бросила-то? Вот нянька!
– Кричит? – Она выпрямилась и прислушалась. – А ты притвори дверку-то, притвори, его и не слыхать будет.
– Да ведь кричит же!
– Ну и че, ну и пускай покричит. Это ему в пользу, лучше будет спать.
На другой день мальчонка кричал поменьше, а на третий, когда я из интереса заглянул опять в избу, приметив, что тетка Улита копается в огороде, он уже водил перед собой сковородником, как щупом, и, время от времени, что-то обнаружив им, восторженно взвизгивал. Нечего и говорить – спал он, конечно, отменно.
И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь и бежим почему-то среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка Улита припозднилась с коровой.
И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:
– Эх, искупаться бы… Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?
– А я, парень, и вовсе никогда не купалась, – ответила она.
Я изумился:
– Никогда не купалась?! Почему?
– А некогда было. Один раз девки живьем в одежонке в воду столкнули, дак махом вымахнула и скорей за серп. Когда нам было раскупываться?
Тогда же я спросил:
– А ты почему замуж не выходила, тетка Улита?
– За кого? После войны не за кого было, потом женихи подросли, дак я уж сама изросла. А в чужую деревню уходить не хотела.
* * *…В одно урожайное на грибы лето мы с соседом по два раза на дню плавали за речку за рыжиками. Здесь, в чистых криволуцких сосняках на заброшенных полях, их было особенно много. Однажды под вечер, нагрузившись во всю посудину, я тихонько вышел из лесу к поляне, на другом краю которой поблескивал залив и стояла наша лодка. Видно, я вышел совсем неслышно, и тетка Улита, сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторону криволуцких полей, не успела смахнуть слезы. Она и не стала их смахивать, а сказала мне:
– Вот помру, думаешь, я на кладбище лежать буду? Нет, парень, я здесь буду бродить.
– Без работы?
– Кака-нить работа, поди, найдется.
Умерла тетка Улита зимой.
За три дня до того я приехал в деревню, растопил печку, и на дымок первой ко мне заглянула тетка Улита. Мы поговорили мало, она, как всегда, куда-то торопилась. «Как вы, тетка Улита?» – «Дак а я че, обо мне какой разговор? Топчусь». Приглашала «побормотать». И в тот же вечер слегла. Рассказывали, что закатывала в ограду бочку с замерзшей водой (водовоз налил, а она не заметила, вода замерзла), – стала закатывать, чтоб отдолбить, и «в грудях че-то сделалось». Два дня лежала. Да и не лежала; накануне вечером пошел к ней, а у нее за воротами два парня с бензопилой возятся над кряжами. Она, больная, никто не знал, до какой степени больная, еще топталась, подавала им закуску. Когда ушли, закрылась, легла и больше не встала.
* * *Так и лежат они неподалеку друг от друга: бабушка в среднем порядке разросшейся и успокоившейся деревни, а тетка Улита в верхнем. Кладбище высокое, словно вознесенное надо всем, что его окружает. От него хорошо видно во всю ее разлившуюся ширь Ангару, и, если встать лицом к воде, справа видны криволуцкие елани, а слева бабушкины, аталанские.
1984В деревне, где я зимой жил, прошел вдруг слух, что водку с 1 февраля уценят. Слух, конечно, он и есть слух, сама жизнь учит не доверять им, и все-таки мужики клюнули. А клюнули оттого, что у слуха была основательная подпорка: мол, да, водку уценят, и сильно, но зато введут систему строгих штрафов. За каждый невыход на работу – пятьдесят рублей. Государство, мол, в убытке не останется, и то, что не доберет оно при продаже, с лихвой возместит с прогульщиков. И их таким образом прищучит, а то и верно, распустили. Мол, крякаешь, что дорогая, когда в карман лезешь, – пожалуйста, вот тебе дешевая, пей. Пей, да дело разумей. Называлась даже новая цена «Пшеничной» – три семьдесят.
Были, конечно, и сомневающиеся. Особенно их смущало 1 февраля. Несерьезная какая-то дата. Вспомнили, что прежде уценки имели другое число – 1 апреля. Энтузиасты слуха на это отвечали, что нынешним уценкам со старыми не тягаться, потому и решено отделиться. Да и водка – продукт, так сказать, не общего ряда, продукт наклонный, ну и быть ему во всем наособицу. Чего лезть в 1 апреля, в день по всем статьям узаконенный, ежели речь только о ней, горемычной, и идет?
И до того этот слух вошел в силу, до того окреп, что и представить нельзя было, чтобы он не подтвердился. Даже я, непреклонный поначалу во мнении, что этого быть не может, под конец закачался: чем, действительно, черт не шутит?
И вот 1 февраля наступило. День был рабочий, но в леспромхозе, во-первых, скользящий график, а во-вторых, от нижнего склада до деревни недалеко, и лесовозы с утра так и принялись шить по улице, громыхая прицепами. Нетерпение усилилось и уверенность возросла, когда стало известно, что магазин закрыт, а Вера, продавщица, уехала в ОРС – за тридцать километров в центральный поселок леспромхоза. Зачем уехала? Ясно, за новыми расценками и инструкциями. Появился новый слушок: в первые дни, чтоб народ на дармовщину не опился, на руки станут отпускать только по одной бутылке.