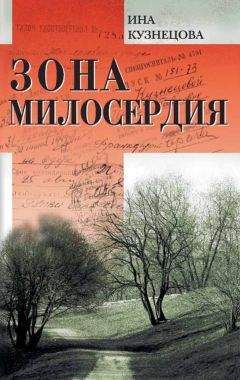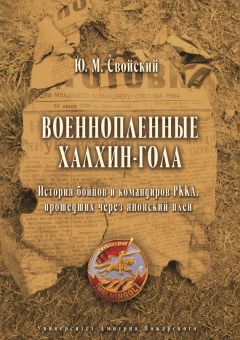Ознакомительная версия.
А что же будет дальше? – этот тревожный вопрос возникал передо мной все чаще.
Общая проверка документов проходила и здесь по стандартной схеме.
Никаких нарушений найдено не было. Осталось неясным, для какой цели все члены комиссии зашли в вагон к немецким врачам и задали всего несколько, на мой взгляд, ничего не значащих вопросов.
На третий день пригласили меня. Комиссия из трех человек. Разговор велся в очень официальном, временами резком тоне. Тема, уже навязшая в зубах, о тяжелых больных, необходимости более тщательного контроля, именно здесь, в Смоленске. Лучше перестраховаться и ненадежных оставить здесь. И уже опостылевший рефрен: «За границей – ни одного трупа, будете отвечать».
Сейчас я думаю и удивляюсь: почему я ни разу не спросила, как я буду отвечать, если условие будет нарушено. Теперь это трудно понять: просто боялась. От страха. Страшно было все: и молчать, и говорить.
Ведь это был 1948 год.
Не менее удивляет и то, почему стращая меня санкциями, никто из них не создал объективную медицинскую комиссию, которая совершенно очевидно не пропустила бы Вальтера? Почему они ориентировались только на меня одну, молодую и неопытную?
Этому объяснения не нахожу до сих пор.
На их вопросы я отвечала так же, как в Москве: угрожающе тяжелых больных в эшелоне нет. А состояние интернированного мальчика, больного туберкулезом, к которому всюду возникает повышенный интерес, остается стабильным в течение всего проделанного пути.
На этом разговор и закончился. Я уже встала, собираясь попрощаться. Вдруг старший по званию, уже совсем не казенным, а простым человеческим голосом, я бы сказала, товарищеским тоном, произнес:
– Послушайте, доктор, ну зачем вам нужны эти сложности? Зачем вам нужна эта ответственность? Эти трудности? Вы так молоды, у вас нет опыта. А сложности будут большие. Дорога еще очень длинная. Вы берете на себя груз, размеры которого не представляете. А если что случится? Послушайтесь нас – оставьте этого больного в Смоленске.
Его тон тронул меня. Парировать удар оказалось гораздо проще, чем отстаивать свою позицию в «бархатных» тонах.
Что я могла ему ответить? А он ждал. Таким же мягким тоном я сказала:
– Спасибо, я подумаю.
Он внимательно взглянул на меня. Полагаю, что все понял. На этом мы расстались.
Из темного кабинета я вышла на яркое солнце. Что я чувствовала? Какие мысли бродили в голове? О том, чтобы оставить Вальтера в Смоленске, не могло быть и речи. Я повезу его дальше. Я довезу его до цели.
Судьба этого мальчика волновала всех. О нем говорили в каждом вагоне. Я это знала по случайно услышанным репликам, отдельным замечаниям. И только под Москвой один смельчак – парень из дальнего вагона, лет на пять старше Вальтера, отважился спросить меня о его самочувствии. Я ответила. После этого вопрос приобрел права гражданства. Я не возражала.
И вдруг в Смоленске, весьма интеллигентный больной, долго извиняясь, попросил разрешения и, получив его, наконец, задал вопрос: правда ли, что я собираюсь оставить Вальтера в Смоленске?
– Об этом волнуется весь эшелон, – добавил он.
Я успокоила его.
Думаю, что самым главным фактором выживания Вальтера было сознание, что он не одинок.
Отрезок пути Смоленск – Кенигсберг был тревожным и очень хлопотным. Сказывалась общая усталость. На остановках больные уже не стремились, обгоняя друг друга, к распахнутым дверям вагона. Роскошь русской природы их перестала интересовать. Во всех вагонах звучали жалобы. Заметно увеличилось число больных, состояние которых поддерживалось лекарствами и уколами.
А Вальтеру уже не хватало трех уколов в сутки.
Наконец мы добрались до Кенигсберга.
Вспоминается когда-то прочитанное описание этого города: красота европейского стиля, улицы, застроенных изящными домами из красного кирпича.
Красоты города на мою долю не досталось – ее уничтожила война. А красный кирпич оказался в избытке.
Но, увы, – ни одного сохранившегося дома. Всюду, куда ни кинь взгляд – бесформенные кучи красного кирпича: маленькие, средние и громадные. В остатках разрушенных домов лишь угадывались очертания улиц и площадей. Картину разрушения дополняли удивительная тишина и запустение: ни людей, ни собак, ни машин.
Нас принимали в небольшом нетипично-скромном здании, уцелевшем на окраине города.
Эта последняя проверка была особенно тщательной.
Схема – стандартная.
Разговор со мной был более жестким, чем на предыдущих этапах. На мое утверждение, что угрожающих больных в эшелоне нет, руководитель группы, слегка повысив голос, повторил только что сказанное:
– Вы сами должны быть заинтересованными в соблюдении всех предосторожностей, поэтому я советую: пройдите еще раз по вагонам, оцените каждого больного критически. И всех, слышите, всех, кто вызовет хоть малейшее сомнение, оставьте здесь.
Я хотела возразить – он перебил меня и продолжил:
– Вы должны иметь в виду, что по Польше поезд идет трое суток без остановок.
Это был шок.
Собравши последние силенки, я как можно спокойнее произнесла:
– Я сегодня обошла все вагоны. Именно на основании этих данных я сообщила вам свое заключение.
– Смотрите! – сказал он с некоторой угрозой.
И мы расстались.
Отъезд эшелона предполагался на следующее утро.
Во второй половине дня, когда проверка была закончена и подписаны все документы, произошло событие громадной политической значимости.
В торжественной обстановке абсолютной тишины больным было объявлено, что, начиная с этого момента они перестали быть военнопленными. Теперь они свободные граждане освобожденной Германии.
Хорошо поставленный сильный, красивый баритон медленно произносил слова. Конец фразы он голосом поднял, как знамя. Речь кончилась, а казалось, что в сгустившейся тишине еще звучат последние слова.
Боже мой, что сталось с больными! Примерно через полчаса я повторно прошла по вагонам.
Это были совсем другие люди. Лежали только те, которые по своим физическим возможностям не могли встать. Остальные возбужденно двигались, жестикулировали, взволнованно говорили, перебивая друг друга. Некоторые плакали, не стыдясь и не вытирая слез. Казалось, что говорят все. В сонме множества голосов нельзя было разобрать слов, но это никого не смущало. По возбужденным лицам было ясно, что все всё понимают.
Вальтер сидел, обхватив худыми руками острые колени, раскрасневшийся и улыбающийся, что-то оживленно говорил соседу. А тот, стоя на коленях на своем матраце, жестикулировал в такт произносимым словам. Оба явно не слушали друг друга и счастливо улыбались.
Вот она – великая роль психологического фактора в действии. Не в научном эксперименте на отдельных опытных экземплярах, а в реальной жизни громадного человеческого коллектива. Ничего не значит, что завтра болезнь и усталость приглушат эту вспышку радости. Сегодня она сделала свое доброе и очень нужное дело.
Я вернулась в свой вагон. Маша и Вера были чем-то заняты в хозяйственном отсеке.
Я села у открытой двери и осталась со своими мыслями.
А мысли, тяжелые, как пудовые гири, давили и угнетали.
Три дня езды без остановки – испытание для всех больных, трудно переносимо для пассажиров двух критических вагонов и смертельно для Вальтера. Оставить его в Кенигсберге невозможно.
Это уже вопрос не его – Вальтера, а моего личного спасения. Оставленный здесь, он умрет на другой день. Это совершенно очевидно. А я, сколько бы ни прожила на этом свете, понесу с собой тяжесть неизбывного греха за ничем не оправданное малодушие.
Так что же делать?
Я оказалась в тупике.
Подошла Вера. Прослышав о трехдневном безостановочном прогоне, волнуясь, спросила:
– А как же Вальтер останется без уколов? Он же умрет!
Может, – подумала я, – вполне может! А вслух сказала:
– Что-нибудь придумаем.
Вера посмотрела на меня с некоторым сомнением, но промолчала.
Предполагалось, что завтра к полудню эшелон пересечет границу. Все, связанные с Вальтером вопросы, надо решать сегодня.
Я продолжала сидеть у открытой двери и невидящими глазами смотрела в надвигающуюся ночь. А внутри подобно привычному ритму колес, звучало:
– Что делать? Отступать нельзя! Что делать?
Сегодня эти вопросы явно не решались.
Вместо сна тяжелая полудрема. Хаотические сновидения без начала и конца. Искала какой-то предмет и не находила…
Наступило утро, и ответ на мучительный вопрос был готов. Думаю, он, независимо от моих сумбурных мыслей, давно сформировался в подсознании. Предыдущий день был перегружен событиями. Второстепенные предметы закрывли то, что жило в глубине. Ночь устранила все постороннее.
Все стало просто и ясно. Рядом с больным в течение этих трех дней должен находиться медик. Я не имею права приказать медицинской сестре провести три дня в вагоне, где 80 процентов больных имеют открытую форму легочного туберкулеза. Этот приказ я имею право отдать только себе самой.
Ознакомительная версия.