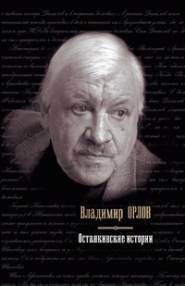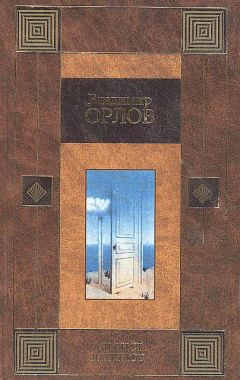Рядом с ним сидел усатый Чесноков, молодой альтист, введенный в «Настасью» после пяти репетиций. Чесноков все делал как надо, и перелистывал ноты, и уж конечно производил смычком точно такие же движения, как и Данилов, однако звука его инструмента Данилов не слышал. Видно, Чесноков робел, сбивался со счета и боялся, как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера. Оттого его смычок и летал, не достигая струн. Чесноков понимал, что Данилов не мог не заметить его хитростей, смущался, отводил глаза. Данилов уловил мгновение и – естественно, не прерывая в уме счета – шепнул ему: «Не расстраивайтесь. Это действительно сложная вещь. Привыкнете к ней – и у вас пойдет… Поверьте мне…»
В антракте Данилов поспешил в буфет в надежде, что тонизирующий напиток «Байкал» одолеет его зевоту. За столик к Данилову присели флейтист Садовников и скрипач Николай Борисович Земский. Взяли пиво.
– Красивая девушка была с вами вчера, Володя, – сказал Садовников.
– Красивая, – согласился Данилов.
– Данилов, а ведь ты демон! – гулко рассмеялся скрипач Земский.
– Я вас не понял, Николай Борисович, – сказал Данилов.
– Да я насчет баб! – Земский при этом наклонился к уху Данилова, сам же загоготал на весь буфет, а в буфете были иностранцы и школьницы. – Ты ведь с бабами-то демон!
Николай Борисович Земский был обилен телом, басом в Максима Дормидонтовича Михайлова, стаканы, уже пустые, на спор раскалывал звуком, лыс, зато с кустистыми бровями, имел прозвища Людоед и Карабас, в коллективе слыл как охальник и бузотер. И дирижеры боялись его озорства. Николаю бы Борисовичу с его комплекцией, раздетому, выступать в цирке вместо Новака, а уж в оркестре дышать могучей грудью хотя бы в гигантскую медную трубу, делать «фуф-пуф» в страшных местах, а он был скрипач, причем искусный, нежнейший. Правда, последние полгода он не играл. То есть он играл, но, как сегодняшний сосед Данилова Чесноков, лишь изображая движения смычка. Делал он это куда более артистично, нежели Чесноков. И струн он не касался не из боязни совершить ошибку, а из творческого принципа. Если бы его попросили для проверки сыграть любую партию, он бы ее сыграл не хуже первой скрипки. Но с такой просьбой к нему никто не обращался, при наличии тридцати шести скрипок молчание одной из них в оркестре, пусть и нежнейшей, можно было не заметить. Ближайшие же к Земскому скрипачи сидели робкие, знавшие, что он потом их все равно перекричит. Впрочем, может быть, они уважали его принципы, а принципы эти не позволяли Земскому создавать звук. Он принял в творчестве новую веру, по ней сочиненные им звуки должны были возникать лишь внутри предполагаемых слушателей. Он бы и вовсе бросил старую музыку, однако ему оставалось два года до пенсии, а пенсию Николай Борисович получать намеревался. В быту он был бес церемонен, что, видно, объяснялось незащищенностью его натуры, но к Данилову относился уважительно. Во-первых, потому, что видел в нем музыканта, пусть и старой школы. А во-вторых, он был членом кооператива, в котором Данилов входил в правление. У Данилова Николай Борисович и узнавал всякие домовые новости. Обижался он на Данилова, лишь когда тот, забывшись, называл его Земским. «Я не Земский. Земские были соборы и врачи, – ворчал он. – Я – Земской!»
– Мишу-то Коренева хоронил? – спросил Земский.
– Хоронил, – кивнул Данилов.
– Я вот не смог пойти… Да… А он ведь мои мысли о музыке почти принял, – сказал Земский. – Да испугался их в суете-то!
– Какие ж у вас такие мысли, Николай Борисович? – спросил флейтист Садовников.
– Это не за пивом, – сказал Земский. – У нас с ним, с Мишей-то, были долгие беседы. Но робость его взяла. Не из-за нее ли он и прыгнул в окно?
– Думаю, что не из-за нее, – сказал Данилов.
– Кто знает… Я тебе, Володя, как-нибудь расскажу о наших разговорах… Это, брат… Да-а-а…
Тут прозвенел первый звонок.
«Настасью» Данилов доиграл, веки его так и не слиплись, одна ко он очень устал от спектакля. «Стало быть, Миша Коренев, – думал Данилов, – ходил к Земскому… Надо будет обязательно расспросить Земского… Теории его ладно, хотя и они любопытны… Главное – выяснить про Мишу…»
Дома Данилов, не раздеваясь, рухнул на диван. Однако нашел в себе силы подняться и сварить кофе. Подошел к телефону, постоял возле него в раздумье, отошел. Утром они с Наташей расстались, не сказав ни слова о будущих своих отношениях, никак не назвав то, что с ними произошло или происходило. И потому, что любое слово было бы здесь неточным, а может, и ложным, и потому, что вовсе не хотели навязывать себя друг другу, обручами условных понятий укреплять то, чего, возможно, еще и не было. Она даже не сказала: «Я тебе позвоню. Или ты мне позвони», она просто закрыла дверь, и все. Данилов был за это благодарен Наташе, и, как бы его теперь ни подмывало желание позвонить ей, он не поднял трубку. Не надо было торопить жизнь, а следовало ей самой доверить и свои чувства и свою свободу. Однако Данилов, сам-то не позвонив, опечалился оттого, что не позвонила Наташа.
«А как там Кармадон?» – вспомнил он.
Он перевел себя в демоническое состояние, но не сразу окунулся в мадридскую жизнь. На излете своих земных мыслей он вспомнил, что так и не посмотрел ноты композитора Переслегина. «Экая я безответственная скотина!» – отругал себя Данилов. Но сдвигать пластинку браслета обратно и хвататься за ноты Переслегина было бы теперь неприлично. Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве и веселился бы с Даниловым на глазах у всех, скажем, в буфете Дома композиторов, то Данилов, даже и переходя в демоны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел.
Но теперь, пока Данилов еще не очутился чувствами в Мадриде, в его кооперативной обители могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Данилов уже слышал за стеной некое шуршание и мурлыканье, то, наверное, пробирался к Данилову на беседу египетский кот Бастер, бывший покровитель музыки и танцев, полуслепой добряк, и на заслуженном отдыхе не потерявший интерес к событиям культурной жизни. Но сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, предвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало, кота Бастера воздушной волной отнесло обратно в египетские земли, мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова, страховые листки, связанные с альтом Альбани, – все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Тут что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места, и на письменном столе Данилова возникла демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, кавалерист-девица, жаркая, ликующая, готовая утолить любовную жажду, поправшая теперь конспекты занятий вечерней сети прекрасными босыми ногами.
– Здравствуй, Данилов! – сказала Анастасия и спрыгнула на пол. – Ах ты, миленок мой, Данилов, что же ты прячешься-то от меня? Аль другую полюбил? – Она смеялась, но в оранжевых глазах ее Данилов уловил и укоризну.
– Да все дела, – пробормотал Данилов. – Вот теперь с Кармадоном…
– Ах, брось, Данилов! Какие дела! – махнула рукой Анастасия и сверкающими камнями, видно инопланетными, устроила в воздухе секундный фейерверк. – Что это орет-то у тебя? – спросила Анастасия.
– Что? А-а-а, это сосед…
За стеной деревянный духовик Клементьев из детской оперы, как и всегда в последние три года, разучивал на электрооргане песню «Ромашки спрятались, опали лютики…». Данилов до того привык к его ночной учебе, что и перестал слышать ее.
– Этак голову проломит! – возмутилась Анастасия, и за стеной в электрооргане что-то взорвалось.
Ну вот, расстроился Данилов. На ремонт ему ведь тратиться.
– Не будет ночью играть, – сказала Анастасия. – Есть же постановление… Ну иди ко мне, Данилов. Ведь я так редко вижу тебя, иди скорей…
Однако она сама двинулась к Данилову, не дожидаясь его порыва, обняла его, влекущие, оранжевые глаза ее были рядом. Данилов ощущал ее упоительное тело, понимал, что сейчас все опять может пойти прахом, но прахом ничто не пошло.
– То есть как? – отстранилась от него Анастасия. – Ты не рад мне? В тебе и желания ко мне никакого нет! Стало быть, и вправду у тебе другая! Мне гадали, да я не верила… – Она замолчала, видно ожидая от Данилова каких-то слов, но не дождалась. – Прощай, Данилов! – сказала Анастасия в гневе. – Прощай, ненаглядный! Ужо я тебе припомню измену. Ты еще пожалеешь!