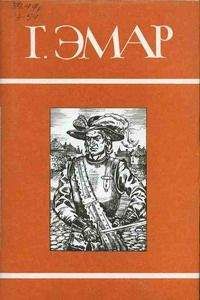– Я вот хочу у вас спросить, как у взрослого, – и тут же опять исправилась, – как уже даже пожилого, извиняюсь, конечно, человека…
Он остановился и посмотрел ей прямо в лицо. В ночном сиянии снега, звезд и витрин лицо это показалось ему совершенно детским, будто ей было не двадцать пять по меньшей мере, а лет десять-двенадцать. Непонятно, когда она успела снять краску…
– Ну, давай, ребенок, – сказал он, почему-то мгновенно почувствовав страшную тоску, даже сердце, как уже иногда бывало, споткнулось и заспешило. – Давай, спрашивай. Что хочешь узнать? Женат ли?
Она вздохнула.
– Вы все равно меня блядью реально считаете, а зря, – на этот раз он подумал, что и подлые слова она употребляет к месту, – я совсем не это хотела у вас спросить…
Прошло с того февраля уже года три, а N все думал о том, почему его так задел ее вопрос, и о том, что два самых главных в его жизни разговора происходили не на трезвую голову, и о том, сколько же времени он отдал таким пустым вечерам, а только два запомнились, и о том, почему глупый и самовлюбленный мазила так сильно, на десятилетия пометил его своей неловкой пощечиной, и почему неглупая, но слишком нахальная девка задала ему вопрос, на который он уже так долго пытается ответить, но не может.
Он не встречал ее больше. Иногда ему казалось, что в толпе ей подобных на банкетах и приемах мелькало ее лицо, он подходил с улыбкой – и извинялся. Простите, принял вас за одну знакомую…
«Вы еще не наигрались?» – вот что спросила она тогда, и с тех пор N часто спрашивал у себя то же самое.
* * *
Обрушился ливень. Казалось, будто едешь по дну буйной реки, шоссе метрах в двадцати перед машиной сливалось с небом. Из воды вылетали желтые подслеповатые огни встречных, в воде растворялось красное мерцание попутных – его все обгоняли, он шел в правом ряду, опасаясь в темноте пропустить поворот. Наконец в черной стене леса открылась узкая просека, он свернул и по более ровному, чем на шоссе, асфальту поехал еще медленнее.
* * *
Это не было внятно сформулированной мыслью, нельзя было назвать это и желанием, больше подходило слово «ощущение». Им N обозначил в конце концов то, что испытывал уже несколько лет, что все чаще всплывало на поверхность в каком-нибудь пустом, неделовом разговоре с кем-нибудь из немногих приятелей, кто еще сохранился, не сгинул в стороне от быстрой, по часам и даже минутам расписанной его жизни.
Надо бы уйти, говорил он, и разговор спотыкался, на мгновение гас, будто огонек зажигалки от легкого, внезапного движения воздуха. После недолгой паузы удивленный, но привычно ерничающий приятель уточнял с усмешкой – как Толстой, что ли? В чем дело? Смысл жизни потерялся? Но он уже успевал собраться и отвечал тоже с усмешкой – ну, конечно, как Лев Николаич, и помереть, доехав до станции Астапово… Нет теперь такой станции, поддерживал шутку приятель, есть станция Лев Толстой, так что место занято…
А уйти хотелось.
И не то чтобы по-толстовски, от мира и семьи – N уже давно, в сущности, ушел от того и другого. Отделился, оставив на границах бдительную стражу обязательных слов и привычных действий, создав внутри себя нечто вроде собственного Министерства иностранных дел для переговоров по практическим проблемам и Министерства обороны для защиты рубежей. На попытки нарушения этих рубежей отвечал мощнейшим оружием массового поражения под названием «деньги», которое прежде, как правило, действовало отлично, ему удавалось откупиться от всех агрессоров – женщин, родственников, друзей, партнеров… Ради этой своей обороноспособности он ничего не жалел, тратя на поддержание денежной готовности все свои силы.
Но этого становилось мало – уйти было необходимо от самого собственного существования, да и сил на охрану границ уже просто не хватало. Тем более что в последнее время система обороны начала давать сбои один за другим, что-то сломалось в ней, так что результаты получались обратные желаемым: люди привыкали к денежным ковровым бомбометаниям и отвечали привязанностью, искренней любовью и даже просто своей уже непоправимой зависимостью от его помощи. Вот зависимость-то его просто убивала. Как-то так получалось, что не они от него зависели, а он от них, он сам был пятой колонной внутри себя. И это разрушало его психологическую безопасность, и он все упорнее возвращался к мысли о необходимости более надежной защиты, какого-нибудь бункера – как одуревший капиталист в пятидесятые, строивший глубокое, полностью автономное убежище от русской водородной бомбы.
Уйти, надо уйти, твердил он про себя или даже вслух, пока ирония собеседника не заставляла и его свести разговор к шутке. Но шутка была лишь слабой, неэффективной мерой защиты, а единственно правильным, надежным решением был бы уход.
N присмотрел это место, несколько раз случайно проехав мимо.
Из-за пробок на шоссе, по которому он добирался до своего загородного жилья, все объезжали ремонтировавшийся мост, и он поехал вслед за всеми, и увидел это прекрасное место, и еще раз увидел, и однажды притормозил, съехал на обочину. Тогда храм стоял еще без крестов, а внутри сияли только что оштукатуренные пустые стены и лежал штабель свежего бруса. И священник посреди пустого пространства как-то нескладно топтался, закидывая седую голову, задирая косоватую бороду – явно в строительных размышлениях…
– Понимаете, – он не знал, как полагается говорить со священником, и решил говорить самым обычным образом, как говорил бы с любым человеком, озабоченным проблемами ремонта большого здания. – Вы, наверное, и сами знаете… Просто я в курсе, сам недавно строился… Надо стройматериалы закупать вперед, в запас… Потому что они дорожают быстрее, чем работа… Вот во дворе…
– В ограде, – поправил священник.
– В ограде, – поспешно исправился он, – можно даже навес поставить и все складировать… то есть складывать. Вы на закупках в запас много сэкономите, а потом, когда все купите, можно и стройку начинать… Только надо со специалистами сначала посчитать, сколько чего потребуется… И молдавскую бригаду не берите.
– У нас свои строители, – сказал священник, – уж простите, у нас в этом правила отдельные.
Тут N почему-то почувствовал, что от этого человека, чье длинное обтекаемое тело в длинной ровной одежде, испачканной опилками, колыхалось мерно и непрестанно, а глаза при этом смотрели внимательно и спокойно, от этого человека не надо обороняться, потому что, в отличие от всех других известных N людей, этот не станет прорывать оборону и закрепляться на завоеванном плацдарме, ему в принципе все равно, открыты или закрыты границы N – границ этих для него вообще не существует, видимо.
Он приезжал раз в неделю, потом два, постепенно взял на себя всю организацию ремонта. Потом придумал, как оповестить не только окрестных старух, но и нескольких более или менее совестливых московских коллекционеров, что храм открыт и нуждается в иконах. Потом полностью оплатил золочение куполов…
При этом N так и не покрестился, все смущался, как-то невнятно говорил батюшке, что тайно был крещен в детстве, а второй раз вроде бы не годится… И, даже входя в церковь, не осенялся крестным знамением, а только обнажал голову или, поскольку редко ее покрывал, слегка кланялся, как знакомому при встрече.
С трудом, примерно за полгода, осилил Библию, многое пропуская и никак не понимая, что священного есть в бесконечных повторах и поименных перечислениях давно умерших людей. Однако Евангелия перечитывал, так что вскоре запомнил их хорошо и особо помнил разночтения у евангелистов… Однажды, перечитывая Марка, заплакал в том месте, где «давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял», потому что отказался Распятый от обезболивающего уже на кресте, при закатной жаре… Слезы утер, смутившись, хотя был в это время совершенно один.
Впрочем, после этого купил в церкви серебряный копеечный крестик и шнурок, стал носить.
Так оно и шло, покуда он не принял окончательного решения, которое, как все окончательные решения, возникло будто бы само собой, непонятно, в какой именно момент – вот только что еще ничего не определено, а вот уже все ясно, как будто всегда так было. Странно, что не приходило в голову раньше. Настолько все просто, исчерпывающе, окончательно, что по-другому и быть не может…
Но кое-что его смущало.
* * *
С этим он сейчас и ехал сквозь дождь, который уже совсем бесновался.
* * *
Ворота были открыты.
Священник, косо загораживаясь от струй, несущихся под ветром параллельно земле, черным старым, с изломанной высовывающейся спицей зонтом, вышел навстречу и, как опытный водитель, приглашая и остерегая выставленными ладонями, помог ему запарковаться в ограде.
– Вот, батюшка, – все еще стесняясь этого обращения, прокричал N сквозь дождь, – я на нее, на машину, гендоверенность сделал, а то полностью оформлять – геморрой, а гендоверенность за деньги сделали без проблем…