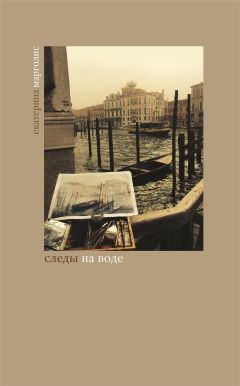Ознакомительная версия.
В доме жили и другие стихи. Пушкин, прежде всего.
Вечер. Трещит натопленная печь. А мама или бабушка читает, словно про нас:
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
На вот, бери ее скорей…
И невольно тянешь руки, чтобы поймать, как мячик.
…Огонь опять горит – то яркий свет лиет,
То тлеет медленно – а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, – ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?
..............
Стихи были всюду. Они ходили по улицам. Однажды они появились на нашей аллее в образе черной шляпки с широкими полями. Шляпка остановилась и разговорилась с нами прямо через забор.
– Вы кто, дети? Эльфы?
– Нет, мы брат и сестра.
– А сколько вам лет?
– Шесть и пять.
– А что вы делаете?
– Сейчас играем в бобров, а до этого слушали пластинку «Индукá».
(Так мы называли пластинку со стихами Вадима Левина «Глупая лошадь»: на строчках «миссис и мистер Бокли достали из сундука» пластинка застревала и часами повторяла: индука-индука-индука, пока кто-то из взрослых не приходил сдвинуть иглу проигрывателя. После обеда нам полагалось лежать тихо, и часто мы подолгу слушали исключительно – индука.)
– Как интересно. Что это за пластинка?
Дама явно была не осведомлена в детских пластинках, а мы принялись безбожно врать, призывая на помощь весь свой небогатый подмосковный кругозор:
– Нам эту пластинку привезла мама… из Нью-Йорка, – бодро отрапортовала я (Нью-Йорк для меня, да и для всех нас тогда был точным синонимом луны).
– Да, из Нью-Йорка, – подхватил брат и смело добавил: – Она купила ее в Нью-Йорке на улице… Горького!
На большее нашей фантазии не хватило. В городе мы бывали редко, и улица Горького звучало так же волшебно, как Нью-Йорк. Врали мы долго и вдохновенно. Дама пришла в неимоверный восторг. Она, казалось, буквально впитывала каждое слово и вбирала в себя всю нашу небывальщину.
Потом заторопилась, попрощалась и пообещала пригласить на день рождения дочери. Через несколько дней вечером, лежа в кроватях, мы услышали разговор родителей между собой:
– Знаешь, – говорил папа маме, – мне Тамара Владимировна рассказала, что встретила тут на днях в Литфонде Ахмадулину, и та сказала, что познакомилась с удивительными детьми-эльфами. Уже пишет стихотворение «Эльфы». Как выяснилось, это наши дети…
Нам бы обрадоваться, но мы испугались. Еще бы – мы не сомневались, что нам сейчас изрядно влетит от родителей за все ту лапшу, которую мы навешали на уши наивной, доверчивой тетеньке в шляпке.
На день рождения нас действительно позвали. Мы сопротивлялись, родители недоумевали, но делать было нечего. По дороге заехали в «Культтовары» на станции и купили набор «Маленькая хозяюшка» – клеенчатый фартук, игрушечную скалку и поварешку. Когда мы вручили подарок Беллиной дочке, то вместо «спасибо» она мрачно изрекла: «Седьмой». Мы были седьмыми дарителями «Маленькой хозяюшки». Что, впрочем, при тогдашнем дефиците неудивительно. И разочарование семилетней девочки, получившей седьмой одинаковый подарок, тоже можно понять. А вот старшая дочь Беллы нам обрадовалась. Была ласкова, играла, развлекала малышей, устраивала викторины, раздавала призы и конфеты. В тот вечер Белла знакомила нас со всеми гостями и представляла не иначе как эльфами. Но волшебной запомнилась она сама.
Мы больше не виделись.
По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Дворянское детство кончилась внезапно. Дали «трешку» в блочном доме. Началась многоэтажная Москва и школа. В школу пошла как во вражеский лагерь. Это нельзя говорить. Это тоже. Осторожнее. Осторожнее. Не подвести бы маму с папой.
Однажды в 3-й «Б» вошла райкомовская дама, чтобы отобрать лучших учеников, которых в качестве поощрения собиралась принять в пионеры в «первую смену». Девочка Xeniя примчалась домой в слезах: «Я не буду вступать в пионеры». Мама растерялась – сама же этому и учила, но жить-то надо. Это становилось слишком опасно. Вечером с работы пришел папа. Попытался выяснить логически: «Почему? Это же пустая формальность – красный галстук и все такое…»
– Не буду. Как я могу произнести слова «торжественного обещания», что я буду любить коммунистическую партию и Ленина?!! Вы же сами говорили, что Ленин – убийца…
– Ну, любви никто не требует. Это просто слова. Они давно уже ничего не значат.
– А что тогда значит, если не слова?.. (с девятилетней запальчивостью).
Убеждали. Объясняли, что с такой крошкой разбираться никто не станет, что неприятности свалятся на взрослых. Папу в лучшем случае выгонят с работы (беспартийный и к тому же еврей!), а что будет делать семья? Чем кормить детей? Взывали к ответственности за маленькую Анечку. Это был точный ход. Ради сестры Xeniя готова была на многое. Главное событие ее детской жизни. Ее первенец. Просыпалась по многу раз за ночь и подходила к кроватке: дышит ли? После рождения Анечки мама ушла с работы: ездить в археологические экспедиции она больше не могла, а дух советских контор был ей невыносим. Работал в семье только папа. К вечеру сговорились на сомнительном компромиссе: Xeniя не будет произносить слова, а будет просто открывать рот в такт со всеми… Так появились красный галстук и чувство предательства.
Брат, не вникая особо в суть пионерской драмы, немедленно почувствовал в красном галстуке ахиллесову пяту старшей сестрицы и не уставал дразнить ее пионеркой. Завязывалась потасовка, и мама, дабы пресечь рукоприкладство, разводила детей по разным комнатам. Но этим дело не кончилось.
Продолжение разыгралось через месяц в школьной уборной, куда девочки дружными стайками ходили подтягивать вечно сползающие колготки.
Xeniя этого места избегала – и по его неэстетичности, и из нелюбви к коллективным интимностям. Дожидалась начала урока и отпрашивалась в случае необходимости. Или же бежала в самом конце большой перемены, когда остальные девочки уже впархивали стайками в классы. Вот и сейчас она осторожно зашла в уборную, но неожиданно столкнулась там со своей тезкой и одноклассницей, тихой девочкой с задней парты, которая, казалось, дожидалась именно ее. Та заговорила первая жаркой скороговоркой:
– Я учусь плохо, и меня будут принимать в пионеры в последнюю очередь, но я собираюсь отказаться. Я верующая. Я чувствую, что ты думаешь так же, как и я, что ты не хотела, что тебе пришлось. Я решила тебе сказать.
Xeniя молчит. В голове проносится: осторожно, осторожно, это может быть провокация…
– Ты можешь мне не верить, – продолжала девочка, словно читая ее мысли, – но ты увидишь, что так оно и будет.
Да уж, действительно нелегко. Сначала бесконечные летучки, собрания, где все учителя сбивались в стаю и дружно клевали маленькую девочку. Потом бойкот класса, науськанного новой классной руководительницей.
– Xeniя Лурье тут? – эта крыса зачем-то вызывала ее в учительскую посреди урока французского.
О эти пустые школьные коридоры и холодок под языком. В учительскую ее отродясь не вызывали, да еще во время урока. Что случилось? В учительской не было ни души. Рьяная любительница сериала про Штирлица сажает девочку за стол напротив себя и направляет ей в лицо лампу.
– Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы. Ты дружишь с Х.?
– Да.
– Ты знаешь, что она не пионерка, и ее поддерживаешь?
– Она моя подруга. (Боже, как страшно, как колотится сердце, только бы случайно не выдать кого-то, не навредить, не предать…)
– Ты была у нее дома?
– Да.
– Ты видела там иконы? А сама она носит крест?
– Э-э-э-э… что-то не припомню.
(Дом был завешан иконами. Крестик был. Старинный, серебряный.)
– Так я тебе и поверила. А книги, изданные за рубежом, у них есть?
– Какие такие книги? Наши школьные, по французскому про медвежонка?
Рикики и Рудуду?
(А это удачная находка! Как будто она и в самом деле не знает, что такое тамиздат.)
– Хватит паясничать. А что вы делали, о чем говорили?
Ознакомительная версия.