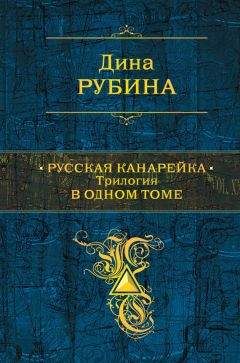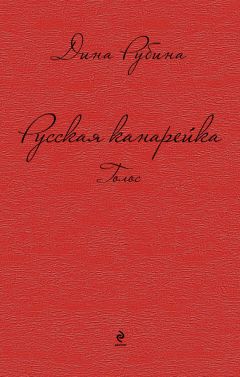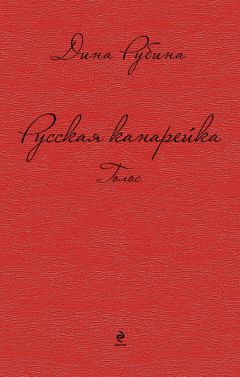– Иначе яички выпадут, – серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал – что, как и зачем делает.
На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб мальцы не замерзли») – а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи – тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили праздничные – ситцевые, сатиновые, шелковые, – очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул…
– Поэзия семейной жизни… – умиленно вздыхал Зверолов.
Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшенные, похожие на Кащея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезд: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», – а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажмуривался, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах.
Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашицу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал – как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.
Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов – уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный (он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и восклицала всегда одно и то же: «Труба иерихонская!» – за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») – выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился джунглевым: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным… и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты – высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) – и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: щелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.
И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц изо рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля.
Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы – переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.
Все птицы пели.
Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло – пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) – и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным просверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.
– Из чего состоит ценная песня благородного певца? – вопрошал Зверолов. Мгновение держал паузу, после чего бережно ставил пластинку на проигрыватель и осторожно пускал иглу в ее зачарованное кружение. Из далекой тишины голубых холмов рождались и звонкими ручьями приплывали, потренькивая по камушкам, вычиркивая-вызванивая и дробно-серебристо роясь в воздухе, птичьи голоса.
Илюша наперечет знал колена песни русской канарейки; умел уже отличить «светлую овсянку» от «горной», «подъемной» – когда, начиная петь в низком регистре, постепенно, будто в гору поднимаясь, певец вытягивает песню наверх, на запредельные трели с замирающей сладостью звука (а ты боишься, не оборвет ли) и долго держит трепетное «и-и-и-и», переводя его то на «ю-ю-ю-ю», то на «у-у-у-у», а после короткого вздоха выдыхает полный и круглый звук («Кнорру пустил!» – шепотом замечал Зверолов) – и заканчивает низкими, нежно-вопросительными свистками.
На ночь клетки покрывали платками и шалями, и сразу в комнате становилось очень-очень тихо. Последней жизнь шорохов замирала не в клетках, а в огромном шкафу, где обитал…
Вот… теперь, хочешь не хочешь, придется вспомнить о Желтухине Втором и, главное, о дубовой резной исповедальне, что служила ему домом.
* * *
В столовой, помимо клеток по углам, стояли тахта и круглый обеденный стол со стульями, а также большая зеленая кадка, где росла финиковая пальма, выращенная бабушкой из косточки. В сущности, эта светлая комната выглядела бы вполне просторно (бабушка не любила «громоздить барахло»), если б не странное монументальное сооружение у «слепой» стены, похожее на орган без труб или надгробие епископа.
Это была исповедальня, выброшенная из ташкентского костела за ненадобностью, когда тот перестраивали – то ли в овощехранилище, то ли еще в какой-то склад. Бабушка утверждала, что Зверолов (он и жил тогда в Ташкенте) притащил к себе исповедальню на закорках. Это, положим, выглядело подвигом Геракла – без грузовика и пары грузчиков там вряд ли обошлось, – но уж как-то доставил, ибо сразу решил, что сей таинственный грот, хранящий отзвуки грехов и страстей человеческих, должен стать обителью Желтухина Второго, его любимого кенаря.
– Почему Второй? – спросил однажды Илюша. – И где же Первый?
– Первый в бозе почил, – вздохнул Зверолов, и мальчик представил эту самую «бозю» в виде той же исповедальни, только лежащей на боку и похожей на деревянный лакированный саркофаг, где лакированным клювом вверх, пугающе неподвижный, как мумия фараона, почил Желтухин Первый.
Все дело в том, что Желтухин Второй был – в отличие от остальных зеленых канареек овсянистого напева – желтым и ослепительно гениальным. Свою песню инкрустировал каскадом вставных колен. Пел с открытым клювом, в манере сдержанной страсти, виртуозно меняя тональность и силу звука, «балуясь»: то проходя низами, то поднимая тон, то сводя звук к обморочному зуммеру, трепещущим горлом припадая к тончайшей тишине. Не было случая, чтоб оскорбил он свое искусство акустической грубостью или вдруг громче крикнул, чем это было уместно. Зверолов уверял, что на любом мировом конкурсе, ежели бы на та кой попасть, Желтухин Второй обязательно отхватил бы первый приз.
Как сладко было просыпаться утром под его песню…
Начинал он синичкой-московкой: «Стыдись-стыдись-ты! Стыдись-стыдись-ты!» – словно укорял Илюшу-засоню. И, как бы не веря в то, что мальчик сейчас же вскочит, на ироническом выдохе проборматывал: «Скептически-скептически… скептически-скептически…»
О, Илюша мог часами толмачить разговоры-канары птичьего народца. Желтухин, когда еще к песне не приступал, выщелкивал такие речи! «Нетеберассказывать!» «Незадавайвопросов!» И после секундного размышления, решительно и четко: «Предпринял, предпринял!..» – затем следовала попискивающая нить многоточия и:
«Воттеперьуходи… воттеперьуходи-и-и…»
А дальше гневным стрижом: «Щщассввыстрелю!!!
Щщассввыстрелю!!!»
И наконец плавно переходил на россыпи…
Из мечтательного далека, из звукового небытия вытягивал и вил нежную, еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной. Хотя коронной его была редкая в пении канарейки россыпь серебристая: витая блескучая нить, на слух – разноцветная, желто-зеленая… А там уже катились «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегнутыми увертливой скороговоркой флейты. И вдруг выворачивал он на звонкие открытые бубенцы, и те удалялись и приближались опять, будто старинная почтовая тройка кружила в поисках тракта… А заканчивал «отбоями»: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-динь!» – колокольцы в морозном воздухе зимнего утра.
Вообще, изобретательность его композиторского дара не знала границ. Одну и ту же тему он варьировал, перерабатывая ее по ходу исполнения, с филигранной точностью и грациозным изяществом вплетая в нужное колено.