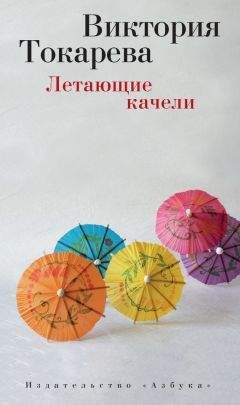– А какие же это условия?
– А у нас на даче болотистая местность.
– А чем вы его кормите?
– Папоротниками.
Севка говорил так искренне и делал такие честные глаза, каких, он знал, никогда не бывает у людей, когда они говорят правду.
– А почему его не берут в зоопарк? – резонно спросил режиссер.
– А мы его не отдаем. И он сам не хочет. Он у нас дом сторожит, как собака.
Режиссер верил и не верил.
– А ты не врешь? – усомнился он.
– Зуб даю! – поклялся Севка и вдохновенно плюнул в сторону.
– Отлично! – Режиссер встал. – Мотор.
Перед Севкиным носом щелкнули доской о доску, пробормотали какие-то иностранные слова: «кадр», «дубль». Опять возникла крыска и ехидно спросила:
– Ты когда-нибудь видел звероящера?
Но Севке было уже безразлично – нравится он девчонке или не нравится, жарко в павильоне или холодно, видит его мама или не видит. Он только врал и выкручивался и под конец сам уже поверил в то, что у него на даче на веревке сидит звероящер.
Пузо у него огромное, хребет как забор, а голова маленькая. Мозгов мало.
Севка сидит перед ним на корточках и скармливает папоротники. Звероящер меланхолично жует, перетирая папоротники травоядными челюстями, грустно смотрит на Севку и медленно мигает тяжелыми веками. Ему обидно, что все его знакомые вымерли еще до нашей эры, дружить ему не с кем и никто его не понимает, потому что у звероящера доисторическое самосознание.
– А ты не врешь? – с завистью спросила девчонка. Ей тоже хотелось иметь на даче звероящера.
Севка сделал энергичный жест под подбородком, который должен был означать: «Даю голову на отсечение».
В глубине павильона засмеялись, и Севке казалось, что он слышит мамин смех.
– Стоп!
К Севке подошел режиссер, приобнял, положил руку ему на плечо. В голове у Севки плыло марево от жары, от счастья и от усталости, которая пошла в дело.
Он чувствовал, что режиссер его признал, теперь он с ним одна компания, и Севкино плечо росло к его ладони.
В глубине павильона растворилась маленькая дверь в стене. Севка сразу заметил это, потому что павильон в глубине был темный и в темноте резко высветился прямоугольник двери. В прямоугольнике возник мальчик.
На нем была круглая соломенная шляпа, штаны и рубаха, похожие на половую тряпку. Штаны – коричневая тряпка, а рубаха – сизая.
Мальчик приблизился, остановился неподалеку от Севки.
– А! Николай Иваныч! – обрадовался режиссер. Он подошел к мальчику и поздоровался с ним за руку. – Ну, как дела?
Мальчик ничего не сказал. Он сглотнул и уставился на режиссера со счастливым щенячьим выражением.
– Как учишься? – спросил режиссер.
– Нормально, – сказал мальчик басом.
– Текст выучил?
Режиссер смотрел на мальчика с таким видом, будто он всю свою жизнь готовился к этой встрече, а сейчас настала главная минута его существования.
«А я?» – подумал Севка. Но ответом на его вопрос был другой мальчик, похожий на него. Они беседовали с режиссером о том о сем, и им было очень интересно друг с другом.
Севка отошел в угол декорации к светлым струганым доскам, снял соломенную шляпу. Положил на доски. Хотел стащить штаны и рубаху, но тогда он остался бы в одних трусах, а это стыдно.
Севка прошел в темную глубину павильона, подальше от фонарей. Фонари были выключены. Они притушили свой огненный глаз и отсвечивали обычным стеклянным блеском.
Севка пошел скорее. Потом бежал. Он бежал по каким-то ходам и закоулкам, чтобы израсходовать движением духоту, скопившуюся у него под горлом.
Севка забежал в военный блиндаж с патефоном в углу, сел на самодельную табуретку и зарыдал. Он пробовал подавить рыдания, глотал их обратно, но они вырывались из груди кашлем и стоном. А иногда воем. В какой-то момент Севка услышал свой вой со стороны и успел отметить – точно так же выл за стеной соседский щенок Ричи, была абсолютно та же мелодическая линия, идущая снизу вверх и ломающаяся на самой высокой ноте.
Севка не знал, сколько прошло времени. Вдруг он вспомнил, что в павильоне осталась мама. Она, должно быть, бегает с перепуганным лицом и ищет Севку.
Он поднялся с табуретки, вытер лицо рукавом чужой рубахи и постарался, как учил его папа, «взять себя в руки». Севка выпрямил спину, «посадил ее на позвоночник», выстроил каменно-презрительное выражение лица и пошел обратно, угадывая дорогу. И все время, пока шел, старался удержать на лице выражение, чтобы оно не поползло. Когда Севка вернулся в павильон, фонари еще не горели. Значит, времени прошло мало.
К Севке сразу же подошла мама и протянула школьную форму, чтобы Севка мог в нее переодеться. У мамы был обычный вид. Севка смотрел с затаенным вниманием: держит мама лицо или это ее лицо? Но мама смотрела немножко ниже Севкиных глаз, и он не понял.
Подошел режиссер, приобнял Севку, положил руку ему на плечо.
– Ты не очень торопишься? – спросил он.
– А что? – Севка напрягся, окаменел спиной и плечами.
– Николай Иваныч весь текст забыл, – поделился режиссер. – Ты бы порепетировал с ним, пока мы тут свет ставим…
Подошел Николай Иваныч. Остановился, пригорюнившись. Виновато, медленно мигал, как звероящер.
Севка посмотрел на его белые широкие брови и сухо сказал:
– Пойдем…
Они отошли к доскам. Сели на них, одинаково ссутулившись, развесив руки на острых коленях.
– Ты когда-нибудь видел звероящера? – спросил Севка.
– Ты когда-нибудь видел звероящера? – повторил Николай Иваныч.
– Это я говорю, – поправил Севка. – А ты должен спросить: «Какого звероящера?»
– Какого звероящера, – обреченно проговорил Николай Иваныч и поковырял ногтем доску.
– Ты с кем разговариваешь?
– С тобой, – удивился Николай Иваныч.
– Ну вот, на меня и гляди.
В этот момент к доскам осторожно, брезгливо ступая, подошла кошка. Она остановилась, повернула голову и сурово, очень официально посмотрела на мальчиков.
И Севке было непонятно: то ли эту кошку привезли на кинопробу, то ли она здесь живет.
– Ты слушаешь или нет?
– Слушаю. А что я еще делаю?
– Думаешь про свое.
– Ничего я не думаю про свое. Со мной все ясно. Если кастрюлю поставить на самый сильный огонь, суп выкипает, вот и все.
– Суп? – переспросила Татьяна.
– И любовь тоже. Нельзя создавать слишком высокую температуру кипения страстей. У поляков даже есть выражение «нормальная милошчь». Это значит «нормальная любовь».
– Тебе не интересно то, что я рассказываю? – заботливо спросила Татьяна.
– Интересно. Рассказывай дальше.
– А на чем я остановилась?
По пруду скользили черные лебеди. Неподалеку от берега на воде стояли их домики. В том, что лебеди жили в центре города в парке культуры и отдыха, было что-то вымороченное, унизительное и для людей, и для птиц.
Женщина за нашей спиной звала ребенка:
– Ала-а, Ала-а…
Последнюю букву «а» она тянула, как пела.
Подошла Алла, худенькая, востроносенькая.
– Ну что ты ко всем лезешь? – спрашивала женщина.
Алла открыто, непонимающе смотрела на женщину, не могла сообразить, в чем ее вина.
– Пойдем посмотрим наших, – предложила я.
Был первый день летних каникул.
К каждому аттракциону тянулась очередь в полкилометра, и вся территория парка была пересечена этими очередями. Ленка, Юлька и Наташка пристроились на «летающие качели». Они стояли уже час, но продвинулись только наполовину. Впереди предстоял еще час.
Дочери Татьяны Ленка и Юлька были близнецы. Возможно, они чем-то и отличались одна от другой, но эту разницу видела только Татьяна. Что касается меня, я различала девочек по голубой жилке на переносице. У Юльки жилка была, а у Ленки нет.
Юлька и Ленка были изящные, как комарики, и вызывали в людях чувство умиления и опеки.
Моя Наташка как две капли воды походила на меня и одновременно на тюфячок, набитый мукой. Она была неуклюжая, добротная, вызывающая чувство уверенности и родительского тщеславия.
Полуденное солнце пекло в самую макушку. Подле очереди на траве сидели женщины и дети. На газетах была разложена еда. На лицах людей застыла какая-то обреченность и готовность ждать сколько угодно, хоть до скончания света.
– Как в эвакуации, – сказала Татьяна.
– Интересно, а чего они не уходят?
– А чего мы не уходим?
– Пойдемте домой! – решительно распорядилась я.
Ленка и Юлька моментально поверили в мою решительность и погрузились в состояние тихой паники. Наташка тут же надела гримасу притворного испуга, залепетала и запричитала тоном нищенки:
– Ну, пожалуйста, ну, мамочка… ну дорогая…
При этом она прижала руки к груди, как оперная певица, поющая на эстраде, и прощупывала меня, буравила своими ясными трезвыми глазками чекиста.
Ленка и Юлька страдали молча. Они были воспитаны как солдаты в армии, и ослушаться приказа им просто не приходило в голову.