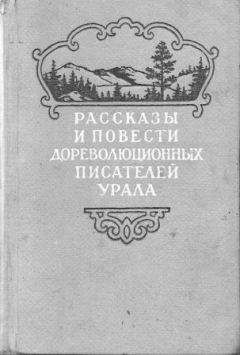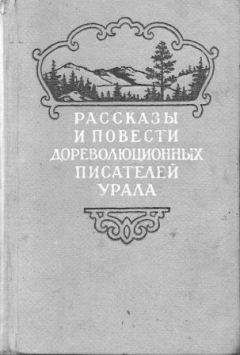– Да. Может быть».
С этими же вопросами она отправилась к известному оптинскому старцу, который в 1920-е служил в Зосимовой пустыни.
«Я сказала старцу о своем „отсутствии“ в церкви, о неверных порывистых подъемах и реакциях, о том, что никак не могу понять и поверить, что всё на свете, всё греховно и во зле лежит, и даже сержусь на это и люблю всё земное. Он пристально, в молчании посмотрел мне в глаза. „Говори, говори. Это, кажется самое главное. Слушайся своего сердца, дитя“. Он положил мне на лоб руку и сделал легкое движение, всматриваясь еще раз в меня. Я не поняла, думала, что он наклоняется ко мне, и хотела поцеловать его, благодарная и радостная, что он не рассердился, а был очень добр.
„Нет, дитя, не надо, нельзя целовать монаха. Ничего и никого не бойся. Слушайся своего сердца. Оно у тебя чистое и ясное. Благослови тебя Господь“. И он благословил и подарил мне образ Архистратига Михаила. „Он отгонит от тебя все темное, если оно приблизится к тебе. И ничего и никого не бойся“. – „Я еще никого не боялась“. – „Я вижу“. И он еще раз ласково благословил меня и дал поцеловать руку».
Скорее всего, ее удержала от неминуемой гибели во всевозможных зигзагах судьбы именно любовь к жизни, которая и должна была привести ее к своему истинному назначению.
Ольга Бессарабова. 1927
Когда из дарительных бумаг выяснилось, что дневники попали в музей от Анны Степановны Веселовской, какие-то смутные подозрения о будущем Ольги Бессарабовой уже закрались в мою душу.
Уже совсем скоро я встречу ту самую Анну Степановну, и она расскажет мне о необычном повороте в жизни Ольги Бессарабовой – по сути, о ее новом этапе, который наступит буквально через год после того, как прервались записи в дневнике.
Однажды она шла по московской улице и встретила своего старого знакомого, историка, у которого она перед революцией работала в архиве, – Степана Борисовича Веселовского: он был немолод, к тому времени оставил свою большую семью, пять взрослых сыновей жили своей жизнью. Они поговорили и расстались. А через несколько дней от него пришла записка, в которой он просил о встрече. Она пришла на свидание, где он, не раздумывая, сделал ей предложение. К общему удивлению своих друзей, Ольга Бессарабова тут же согласилась стать его женой. За год до своего решения написала: «Работой своей… я захвачена хорошо и крепко… монастырь или семья – вот что хотела бы я видеть на столбе своего распутья».
В каком-то смысле она исчезла – появилась Ольга Веселовская, с другой историей и другой судьбой.
Метафизический чертеж: в заколдованном лесу…
Что стало с поколением мальчиков и девочек, рожденных в девяностые годы ХIХ века, нам по большей части известно. Если они выжили после Гражданской войны, не стали эмигрантами, если их не арестовали, то жизнь их в основном протекала в библиотеках, в архивах, в музеях, в лабораториях. Некоторые из них даже обольщались достижениями соетской власти, но в конце тридцатых годов к ним пришло отрезвление.
И все-таки чем сильнее я углублялась в ту жизнь и в тот мир, тем больше меня охватывало недоумение. Сколько уже было перечитано о дореволюционных и послереволюционных годах. Они были по-своему даже ближе, чем 1930—1950-е советские годы. Казалось, всё было известно до мелочей: и ужасные дореволюционные предчувствия, и навалившийся кошмар войны и революции, и боль, и ужас, и голод, и увешанные людьми поезда.
Но в ее записях не звучали речи о гибнущей России, не было раздражения от страшной бесбытности, наступившей после Октября.
Не было и страха перед будущим. Хотя ее жизнь и жизнь ее поколения была перенасыщена катастрофическими событиями.
При этом Ольга фиксировала общий градус безнадежности – предел, который с неизбежностью чувствовали все: «Недолго у Добровых… обо всех нас, о всеобщей усталости и мрачном, тяжелом душевном состоянии. Все мы – на каком-то самом краю не то полыньи, не то обрыва. Не надо оглядываться в заколдованном лесу жизни. Окаменеешь или растерзают чудища, если оглянуться на них», – писала Ольга Бессарабова в 1923 году.
Они не бунтовали, не возмущались, не плакали над своей судьбой. Слишком неоднозначна была до этого жизнь в России. Они принимали ее судьбу как свою. Иногда казалось, что это чеховские персонажи продолжают свой трагический путь после смерти их автора. Так жили бы в Советской России дядя Ваня, Астров, да и три сестры преподавали бы в советской школе или служили в библиотеке. Только все ужасно устали – и старые, и молодые.
Так же смертельно устал от революции и войны, от запаха крови Юрий Живаго, пешком вернувшийся с Урала в пыльную Москву. Он шел несколько лет, чтобы в дороге пережить разрыв времени. Чтобы войти в советскую Москву уже другим человеком.
Весна 1923 года. Сергиев Посад. На фотографии стоят три девушки, облокотившись на деревянный забор. У калитки – Олечка Бессарабова в широком платке на плечах.
Как землисты от вечного недоедания их лица! В течение всей сталинской эпохи эти люди жили впроголодь. Очереди за хлебом начинаются с Первой мировой, продуктовые – все тридцатые годы, потом – с карточками во время войны, потом – голод 1946 года, потом отмена карточек, но купить на деньги можно только необходимое.
Их лица, хотя улыбчивы, в то же время по-особому бледны, в глазах – опыт болезни и смерти.
Пальто сидят на девушках, как балахоны. Они вынашивали, перелицовывали, перешивали дореволюционную одежду. Она, неловко пузырясь, висела на них, что хорошо видно на фотографиях. Мужчины посолиднее ходили в толстовках, в сандалиях, в фуражках, в картузах. А «бывшие» – в залатанных пиджаках. Женщины – в беретах и почти бесформенных платьях.
Ольга Бессарабова с подругами. Сергиев Посад, 1923
Можно было спокойно и с достоинством «сойти на нет» – и это был бы выход для многих из них, но… если бы не было детей и близких. Вот тут и начиналось самое трудное.
Одни из них хотели забыть прошлое. «Не оглядываться в заколдованном лесу жизни». Забыть, как звали дедушек и бабушек, где и как они жили, как молились и где хранили свои священные книги. Забыть означало раствориться в общей жизни. Но Олечка Бессарабова не смогла забыть и не смогла раствориться. Хотя в ее дневниках вдруг появлялись страницы, густо замазанные чернилами. И это означало, что с какого-то времени в ее жизнь все-таки вошел страх, и напутствие и защита старца перестали действовать. Скорее всего, это началось позднее. Но когда?
Какие они были? Не советские, не антисоветские, а какие-то другие. Я их не чувствовала и не знала. Странным образом они не растворялись в советской жизни, не принимали ее языка, стиля, они молча несли в себе некую особость, которая была видна в очереди, в тюремной камере, в классе, куда они приходили давать уроки. Эта особость была отмечена неисчезающим чувством собственного достоинства. И еще тем, что они не искали лучшего для себя.
Я снова и снова листала тетради. Видно было, с каким тщанием Ольга Бессарабова складывала мозаичную картину из писем, дневниковых записей, своих и друзей: открытки, послания с фронтов Первой мировой – всё это собиралось, переписывалось и вклеивалось в толстые и тонкие тетрадки, чтобы МЫ прочли и узнали.
С тех пор прошло почти девяносто лет.
Дневники Ольги Бессарабовой были одной из цепочек опыта, которая прервалась, так и не став частью культуры, хотя давным-давно могли бы стать.
И мне кажется, что за всеми темными картинами настоящего, за тем, что видишь перед собой дурного – от дыры в асфальте до грязи вдоль дорог, – стоят оборванные нити судеб тех, кто не успел или не сумел преобразить ту жизнь. И каждый раз возмущаясь, страдая от несправедливости, я вдруг вижу это выпавшее из цепи истории звено, понимая, что кто-то не смог дожить, договорить, дотянуться…
Надо было найти потомков. Необходимо было сделать из дневников книгу. При этом я прекрасно понимала, что эти записи легко разбираются на фрагменты, которые исследователи Даниила Андреева, Павла Флоренского, Владимира Фаворского и других могут использовать в своих изысканиях. Но тогда вся ткань жизни исчезнет, затеряется. Так всегда и бывает.
Дочь Ольги Бессарабовой
Наконец я нашла телефон дочери Ольги – Анны Степановны Веселовской.
Звонок. Долго длинные гудки. Я уже потеряла надежду и вдруг услышала ответ. Это была она – Веселовская. Звук голоса был таким тихим и неотчетливым; показалось даже, что я окликнула тень, и она что-то прошелестела мне в ответ.
Но я все равно была вне себя от радости. Перепрыгивая с одного слова на другое, путаясь в вопросах, в выражении своего удивления, я спросила, нельзя ли приехать поговорить с ней. Она будто бы и не расслышала этого вопроса. Не расслышала восторгов и пожелания издать дневники. И не обрадовалась. Но было очевидно, что хотела создать впечатление, что ей это приятно. Голос продолжал звучать как сквозь пелену.