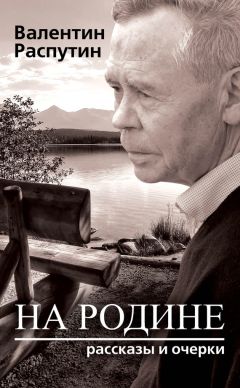– Видал.
– Ну и че?
– Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила… А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.
– Начать да кончить, это верно, – согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. – Это уж верней верного.
Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы она в хозяйках и ему и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.
На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, – но когда же их было сушить? – и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:
– С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.
Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, – будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той причине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:
– Как седло на корове!
– Зато какое седло! – не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: – Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато счас… сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе – большого начальника.
Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой… В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом… А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, – оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. – Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в небе – Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало – вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.
И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла – это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь – как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья – скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дождаться: «Где же это утро-то заблудилося?», отрывалась от работы, чтобы сбегать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают «вот-вот», но десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.
Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незнакомых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но, упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.
Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услыхал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а, высмотрев, отстала и сложила печь сама.
Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а гладя бледными лучами, уже налетали с низовий ветры в белых ряднах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам и лицу, сказала в окно:
– Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.
Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: «Ниче, я сама буду домовым».
* * *Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи. И верно – ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапоги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока не хватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.