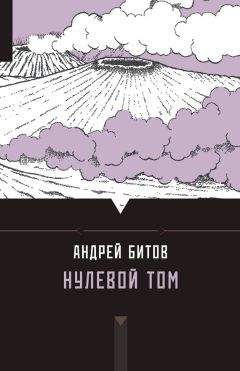А до трех было – раз… Только час оставался до трех.
И, во всяком случае, ему надо подкрепиться. А то ведь совсем смешно оскандалиться оттого, что ты голоден. А также, как говорил специалист, хорошо выпить пива…
И есть ему очень не хотелось, но он съел и первое, и второе. И пить ему не хотелось. Но он выпил кружку пива – и первую, и вторую.
Уж теперь-то он не подкачает!
Все будет в порядке… Зачем же иначе она дала ему вчера свой адрес?
А до трех… А до трех уже ничего не оставалось.
Он подошел к дому. И прошел во двор. Прошел в парадное и поднялся по лестнице. Остановился на площадке. Причесался, глядя в оконное стекло, сделал лицо Джека Лондона – сильное, волевое, с мягкими ямками у губ, живые глаза – одновременно твердость и мягкость. И позвонил.
Замок покрякал. Дверь раскрылась – и это была не Люся.
– Можно видеть Люсю?
– Ее нет дома, – сказал женщина, вся в черном.
Как это он не подумал об этом?
– А она уже пришла с работы?
– Она ушла в магазин. – Женщина закрыла дверь.
Черная женщина… Ну, магазин – это еще полбеды.
Кирюха решил не упускать дверь из виду, сел на скамейке напротив и безразлично грыз травинку. Прошло пять минут, и пятнадцать, и полчаса. «Тут всего-то два магазина», – подумал он и встал. Он зашел в первый, но там не было Люси, и во втором ее тоже не было. «А вдруг мы сию вот минуту разминулись?» Он бегом бросился к парадной, но никого не нагнал. «Нет, не успели бы разминуться», – подумал он. И сел на скамейку. Пять минут, пятнадцать, полчаса.
«Все-таки разминулись, наверно, – подумал он. – Просмотрел».
И вот он снова у двери. Позвонил.
– Люся пришла?
– Пришла и ушла с подругой, – сказала та же женщина.
Черная женщина.
«Когда же это она успела?!» – недоумевал Кирюха.
Он вернулся в общежитие – это был соседний дом. Из окна коридора можно было видеть Люсину парадную. И из окна туалета тоже. Он смотрел на дверь ее парадной и из окна коридора, и из окна уборной. Он надевал темные очки и смотрел в окно и очки. Ему это надоедало. Он отходил и брал газету. И вдруг думал, что именно в эту минуту Люся проходит в парадную. Он бросался к окну и смотрел в окно. И смотрел в очки. Но она не проходила в парадную.
«Что же это я такое? – думал Кирюха. – Что за идиотизм? Собственно – сдалась она мне…»
И он больше не подходил к окну. Проходя в туалет, он мимоходом снова заглянул в окно.
Она не проходила в парадную.
Тогда он решил, что торчать в комнате скучно и что он лучше выпьет эту бутылку сам.
Он купил бутылку и выпил ее.
Ему стало лучше. Он бродил по улицам и смотрел на людей. И чего-то стало ему не хватать.
Он поднялся по лестнице и позвонил.
– Люся дома?
– Она ушла на работу.
– Так ведь она в ночь?
– Сегодня – в вечер, – сказала черная женщина.
Ну и женщина!
А Кирюхе было вовсе наплевать. Подумаешь! В конце концов, ему ничего не нужно – все это он сам себе выдумал. И куда лучше забраться сейчас в постель и читать себе Толстого. Такой писатель… Это писатель. Да – писатель! Ну и писатель! И это главное… Толстой – главное.
Он завалится и будет читать Толстого.
Неплохо бы еще выпить. И Кирюха занял четвертной и еще выпил.
Он спал, и рядом спали Лев Толстой и пустые бутылки. И всем им было наплевать.
Чертовски хотелось пить.
Человек ходил по пустынным незнакомым залам, и воды нигде не было. По длинной крытой галерее он прошел в бесконечный, залитый светом и зеркалами зал. Стол был накрыт. Человек прошел вдоль, и всюду стояли пустые тарелки, пустые стаканы, пустые графины и рюмки. Он дотрагивался до посуды, и пальцы поражались исключительной и неприятной сухостью. Наконец где-то на полпути вдоль тянувшегося в бесконечность стола оказалось блюдо. На нем лежал какой-то таинственный фрукт и весь истекал соком. Буквально плавал в собственном соку.
Человек схватил это блюдо и жадно прильнул к нему, придерживая фрукт одной рукой. Сок вливался в горло, как в широкую воронку. Изредка раздавался всхлеб, как бывает весной из дырки в снегу, куда втекает ручей. Струйки сока сбегали по углам губ, смыкались под подбородком. И за ворот рубашки, и по груди, и по рубашке… Все это случилось в секунду – блюдо стало пустым. Тогда человек схватил нежный мокрый фрукт и впился в него, громкими всхлипами всасывая брызнувший сок. Сок струился по пальцам и в рукава, а человек вгрызался и вгрызался, и лицо все глубже погружалось в липковатую прохладу мякоти.
И фрукт исчез. Человек облизал пальцы.
А внутри полыхала жажда.
И сколько видел глаз, вдаль уходил строй отвратительно сухих тарелок и стаканов, и все это перемалывалось в тысячах зеркал. И зеркальный зной усиливал жажду.
Человек бросился в ближайшую дверь и несся по коридорам. Выскакивал в какие-то залы, холлы, комнаты и проскакивал залы, холлы и комнаты. И всюду стояли пустые графины, пустые стаканы.
А жажда полыхала, и он чувствовал, как распухал язык и занял всю полость. И вот человеку приходится бежать, раскрыв рот, потому что язык уже не умещается. И человек выскочил в какие-то странные улочки – узкие, крытые, – и все окна были закрыты.
А он стучал в окна и двери, и никто не открывал.
«Кто там?» – спросили наконец.
Он хотел крикнуть: «Воды!» – и не мог. Язык разбух, заполнил всю полость и выдавливался между зубов. Трудно было дышать, нечем было говорить…
«Кто там?!» – спросили еще раз, и он стучал изо всех сил и не слышал собственных ударов, бился об дверь и ничего не мог сказать… И шаги удалились от двери.
А внутри клокотала жажда.
«Что за бред! – подумал он в отчаянии. – Что за город?! Такого не может быть!..»
И проснулся.
Чертовски хотелось пить.
Он направился в столовую. По всем столам сидели люди и пили чай, не выпуская стаканов из рук. И он сел. Подошла официантка с чайником, та самая – коротенькая, толстая, смешливая…
– Налейте чаю, – сказал он.
Она подняла чайник и стала лить прямо на стол. Лужа расползалась по клеенке. Струйки разбегались, и некоторые стекали по клеенке на пол. Тогда он встал на четвереньки и начал ловить их ртом. Горячие струйки попадали в глаза, в уши, но никак не удавалось поймать их ртом. Лишь изредка на язык попадала какая-нибудь капля – обжигала, осушала.
– Чертовски хочется пить, – сказал он, вставая.
Официантка снова засмеялась, положила в лужу тряпку, полила ее из чайника и подала человеку. Он схватил эту тряпку и, запрокинув голову, начал выжимать и ловить ртом воду. Он заглатывал, как рыба на берегу. И вода была нужней, чем воздух, потому что человек не только пил воду – он дышал ею.
Вдруг он обратил внимание, что ведет себя как-то странно. А вокруг сидели люди, пили чай, не выпуская стаканов из рук, и никто не обращал на него внимания. Все молчали.
– А почему нельзя налить в стакан? – сказал человек.
Она снова рассмеялась. И тогда он понял, что она и есть вода. И бросился к ней. Но она уже была просто коротенькая, толстая, смешливая – та самая.
А за руку его держал парень, и человек узнал его. Их было два брата, но этот был одновременно и тем и другим.
«Как он здесь очутился? Он не должен быть здесь! Он же – там. Что за чушь?..»
И проснулся.
Чертовски хотелось пить.
Он встал с постели, прошел по коридору и вошел в кухню. Взял кастрюлю и пустил воду. Он подставлял кастрюлю под струю, а потом выливал в горло. И снова подставлял. Он будто бы и не пил, а заливал жажду. Кастрюля за кастрюлей, а он не чувствовал тяжести.
Он подошел к холодильнику и достал бутылку молока. Ледяное молоко приятно холодило раскаленный пищевод.
Он полез в лабаз и достал бочонок с солеными огурцами. Запрокинул голову, запрокинул бочонок и глотал рассол.
«Все-таки дом – это единственное место, где можно напиться!» – сказал он.
«Но почему – дом? Ведь дом – это там! И холодильник там, и молоко там… Что за чушь!»
И проснулся.
А проснуться было вовсе скверно.
Чертовски хотелось пить.
«Во рту словно эскадрон заночевал», – вспомнилось ему. Язык был твердый, засохший какой-то коркой и, казалось, слишком ощутимый и большой для языка. Лицо чувствовалось распухшим и тяжелым. А голова – голова трескалась, раскалывалась, разламывалась. На кусочки, мелкие-премелкие кусочки. И он буквально ощущал, как растрескивались, осыпались, стукались о пол эти кусочки. Потом голова снова оказывалась целой. И снова раскалывалась, осыпалась кусочками. А иногда кусочки были кусками. Голова взрывалась, и тяжело брякали о пол здоровые куски. Но голова все-таки была целой… Просто кто-то заколачивал в голову здоровый тупой гвоздь. Болела поясница.
– Однако перебрал я вчера! – проскрипел Кирюха.
Встал, прошлепал в уборную и долго пил из-под крана. Пошел обратно в комнату. Не дошел – вернулся и снова долго пил из-под крана. Пошел обратно в комнату, забрал бутылку и наполнил ее водой.