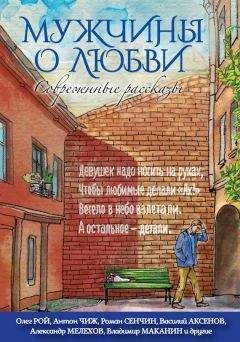Спектакль шел своим чередом, а она смотрела на сцену, но занята была своими мыслями. Людмила Алексеевна впервые подумала о своем бывшем муже без сочувствия. Только сейчас в ней созрело и определилось презрение к этому бесполезному и недалекому человеку. И хотя она всегда говорила ему, что считаться нехорошо, ей сейчас захотелось посчитаться.
Он был виноват во всем, а не она. Только он. Ну, может быть, еще виновата его мама.
Муж-актер – это кентавр. Половина говорит человеческим голосом, а вторая половина больно лягается. Когда она жила с ним, театр был везде, повсюду. Границы театра словно расширились, и она просыпалась сразу в театре. А он, кстати, поначалу с ней расцвел. Роль Горацио ему дали. Она же ходила словно в дурном сне и успокаивала его, успокаивала, успокаивала его без конца. Ну и еще, конечно, хвалила.
А он все равно спился и вернулся к маме в Москву. Переехав, он, кстати, сразу бросил водку, словно и не было этих пьяных лет. Мама, значит, лучше. Бывшую свекровь и вспоминать не хотелось. Двухметровая женщина-гренадер с манерами киношной Золушки.
Людмила Алексеевна отвлеклась от своих мыслей, потому что заметила, что в зале установилась тишина. Публика смотрела на сцену. Там главный герой держал свою любимую на руках. Только что любимая умерла, сбитая грузовиком, и ноги любимой грустно свисали под тяжестью роликов.
Мгновение – и зал взорвался аплодисментами. Любимая на руках у главного героя ожила и широко улыбнулась.
Это был совершенный успех. Зрители молодые и старые вставали, продолжая сильно хлопать в ладоши, словно соревнуясь друг с другом.
Артисты на сцене покраснели от удовольствия. Они выходили кланяться бесчисленное количество раз и решили уже не бегать туда-сюда, а остановились на авансцене, и актрисы зажимали рты руками, словно хотели плакать и сдерживались из последних сил.
Появился главный. Он встал в центре сцены и слегка расставил руки в стороны, как победитель, прощающий толпу за ее недостойное поведение. После он жестом позвал Мишу.
Людмила Алексеевна бросилась к краю балкона и проследила весь путь драматурга от места до сцены.
Миша неумело поклонился, щурясь от яркого света, и с пояса у него упал фотоаппарат. Зрители засмеялись. Людмила Алексеевна шепотом назвала публику дураками и принялась рукоплескать, стараясь не попадать в ритм хлопков большинства. Это увлекло ее, и она первый раз в жизни непроизвольно крикнула «Браво». Ее неожиданно низкий голос на секунду заглушил остальные крики восторга.
Людмила Алексеевна быстро шла по фойе, глазами отыскивая Мишу. Она хотела поздравить его с премьерой и вручить букет. Деньги на цветы дал директор, но можно было об этом Михаилу не говорить. Просто подарить и… Людмила Алексеевна потом хотела позвать Мишу к себе в кабинет. Выпить, может быть, чаю. А после как пойдет.
Для начала она приготовила небольшую речь, которая начиналась со слов: «Что ни говори, а современная пьеса имеет своих поклонников…»
Она увидела Мишу издалека. Драматург подписывал злобной брюнетке-корреспондентке программку. Получив автограф, та быстро встала на цыпочки и поцеловала Мишу в щеку очень близко к губам.
Людмила Алексеевна остановилась. Букет в ее руке перевернулся и повис бутонами вниз.
Брюнетка засмеялась. Смех громкий и раздражающий не подходил ей. Хах-хах-хах… Смех был натужный, мужской, наглый. Хах…
Людмила Алексеевна развернулась и решительно пошла в обратную сторону. Миша догнал ее.
– Вот вам букет, – холодно сказала Людмила Алексеевна, остановившись.
– Спасибо.
– Не за что. Это не от меня. Дирекция просила купить. Я могу идти?
Миша понял ее строгость по-своему:
– Вам не понравился спектакль?
– Не в этом дело.
Драматург не поверил, он расстроился, уголки глаз опустились вниз, как у грустного бульдожки. Видя это, Людмиле Алексеевне захотелось говорить ему только хорошее:
– Мне очень понравилось.
– Правда?
– Конечно. Вы же знаете, главное не «как», а «что», и вы сделали самое главное. – Людмила Алексеевна поправила прическу. – Вы рассказали о любви, пусть несовершенным, своим языком, но суть от этого не меняется. Какой бы ни был человек, старый, молодой, умный, глупый, если его любят, он сразу это почувствует. Это прекрасно – то, что вы написали.
Миша в порыве чувств бросился к завлиту, крепко обнял и поцеловал ее в обе щеки. Для Людмилы Алексеевны в этот момент остановилось время, она словно оказалась в безвоздушном пространстве. Родной театр, как огромная ракета, рывком оторвался от земли и набрал бешеную скорость, а она зависла в невесомости, переживая краткий миг абсолютного счастья и восторга.
На капустник и банкет Людмила Алексеевна надела особенные сережки, в форме колец. Кольца касались плеч. В них она себе очень нравилась. Удачно, что дырочки в ушах не успели зарасти.
Капустники играли в репетиционном зале.
Сначала всегда брал слово главный режиссер. Так было и в этот раз. Смешную речь он приготовил заранее. Состояла она из многозначительных намеков, которых труппа не понимала, но усердно смеялась.
После молодые артисты, мужчины, те, кто играл в пьесе «Сердце на роликах», выскочили на сцену в огромных подгузниках. Номер назывался «Младенцы на прогулке». Дрались погремушками, угукали, а под конец хором разревелись.
Людмила Алексеевна веселилась от души, хотя видела эту миниатюру не один раз. Драматург из Москвы сидел рядом, она чувствовала это.
Когда младенцы начали стукаться лбами, Людмила Алексеевна непроизвольно хрюкнула от смеха и быстро прикрыла рот рукой.
После артисты Кудрявцев и Зотов спели под гитару песню о театре. Далее Зотов остался на сцене и читал Ивана Бунина, следом за ним выступила актриса-травести Крапекина с отрывком из «Маленького принца», и на глазах у нее появились привычные слезы.
Директор Камиль Маратович уснул в кресле, как это бывало на всех капустниках, и его разбудил один из выступавших, что привычно рассмешило всех присутствующих. И все было как обычно, знакомые номера и шутки, семейная атмосфера. А потом показали ее.
Артист Зверев вбежал на сцену в женском платье и начал кривляться. Людмила Алексеевна поначалу ничего не поняла.
Что это за женщина в дурацком парике и с нервным тиком?
Зверев, поправляя накладной бюст, отыскал в зале драматурга Мишу и начал строить ему глазки. Миша стал подыгрывать Звереву. Даже поцеловал тому ручку.
Труппа смеялась дружно и громко. Повернув головы, бросали взгляды на Людмилу Алексеевну, мол, интересно, как она реагирует. Прототип был в шоке. Миша повернулся и встретился с Людмилой Алексеевной взглядом. Он приподнял брови, пожал плечами, как бы говоря: что поделаешь, такие вот глупые шутки. Для Людмилы Алексеевны этого человека больше не существовало.
Она хотела кинуться прочь из зала, но заставила себя досидеть до конца капустника. В глазах двоилось и троилось, она смаргивала слезы, которые снова появлялись, и она опять, рывками вдыхая в себя воздух, одной силой воли пыталась прекратить предательский плач.
Как же может быть больно человеку. Животное от такой боли крутится волчком, визжит, бросается на своих, бежит незнамо куда сломя голову. А человек сидит и смотрит представление в компании мучителей и даже иногда улыбается.
Все закончилось около двенадцати ночи. На улице медленно падал снег. Площадь перед театром словно заросла белым мхом. Редкие черные фигуры проходили мимо по дорожкам, но никак не могли почему-то скрыться за поворотом, словно шагали на месте.
Людмила Алексеевна постояла под козырьком служебного подъезда, сделала шаг, второй и поскользнулась на черной полоске льда. Она резко всплеснула руками, как делала, когда чем-то восхищалась, и тяжело упала на лед.
Людмила Алексеевна сломала ногу. Пролежала дома до начала весны. Выздоровела. В театр на работу больше не пошла.
Трудовую книжку за нее забрала Виана.
А в начале мая Людмила Алексеевна купила себе собаку.
Спектакль «Сердце на роликах» с успехом шел два сезона и был снят, потому что исполнители главных ролей перестали походить на подростков.
Василий Аксенов
Миллион разлук
Рассказ иронический, с преувеличениями
– Жить и видеть, – бубнил себе под нос Эдуард Толпечня, шаг за шагом, по-стариковски – руки за спину – поднимаясь в гору горбатой улочкой среди сугробов, стараясь потверже поставить ногу в ботинке, похожем на крепкий, надежный автомобиль.
– Жить и видеть! – гаркнул он вдруг неожиданно для себя и огляделся с вызовом, словно кто-то убеждал его не жить и не видеть, словно фраза эта, этот девиз были для него итогом какого-то давнего спора. На самом деле не было никакого спора, не было никакого вызова и никакой проблемы – слова эти топтались во рту без всякого смысла, и были они разной длины оттого, что один шаг по обледенелой ступеньке был короткий, а другой – чуть подлиннее.