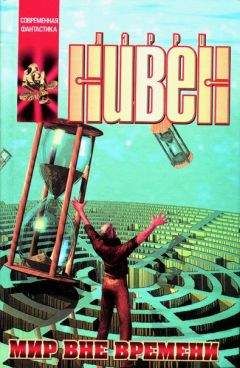Ознакомительная версия.
– Как птицы, – с достоинством отвечала нани.
– Семь на два не делится, верно? – не унимался дядя.
– Верно.
– Значит, получается три крыла за одним плечом, а три за другим. Где же тогда седьмое крыло находится?
Нани растерялась. А мы расстроились – миф об ангелах рушился на глазах. Младшая сестра аж икать перестала, запереливалась глазами. Тут в комнату влетел дед и отвесил дяде Жоре могучий подзатыльник.
– А седьмое крыло запасное, ясно? На ремне болтается. Еще вопросы есть?
Вопросов у дяди Жоры больше не нашлось.
– Я тебе вчера восемь раз звонила. А ты мне так и не ответила, – обижается мама.
– Как звонила? Телефон молчал.
– Я тебе в скайпе звонила!
– Мам, я хоть в Сети была?
– А я знаю?
У мамы макияж, серьги, платочек на шее, прическа. Я со вздохом распускаю хвостик волос, приглаживаю брови. Прячу руки, чтобы она не заметила отсутствия маникюра.
– Ты ж моя красавица, – говорит мама.
Я киваю. Красавица, да. Кто скажет, что не красавица, тот ей враг номер один. А я же не сумасшедшая с родной матерью отношения портить!
– Наринэ, я тут вычитала отличный рецепт для маски. Записывай. Натереть на мелкой терке 40 граммов хрена, добавить две чайные ложки молотого имбиря, залить кипятком… Записываешь?
– Угум!
– Врешь?
– Нет.
– А то я не вижу, что врешь. Записывай давай.
Приходится записывать, а потом еще и зачитывать вслух. Не дай бог что-то пропустила.
– Мы вам маленькую посылочку собрали, – как бы вскользь упоминает мама.
– Снова? – ужасаюсь я. – Мы новогоднюю посылочку еще не съели.
– Габардиненц Ерванд собирается в Москву. Не ехать же человеку порожняком!
– Пусть едет порожняком.
– Ничего не знаю. Будет через три дня. Я оставила адрес. Подвезет прямо к вашему дому.
– Найдет?
– Найдет. У него этот, как его. Аппарат для распознавания дороги. Жипирэсэ.
– Мумсик! – давлюсь от смеха я.
– Захрмар. А как правильно? Жиписэрэ?
– Джипиэс!
– Ну и что ты мне голову морочишь, когда я так и сказала? В общем, ждите. Скоро посылка будет.
– Мам, а кто такой этот Габардиненц Ерванд? И почему он Габардиненц? Его предок первым в Берде надел габардиновое пальто?
– Не знаю. Надо твоего отца спросить. Он Габардиненц род хорошо знает. Всю жизнь им зубы лечит.
Посылка прибывает тютелька в тютельку, через три дня. Я сразу распознаю микроавтобус Габардиненц Ерванда. Во-первых, по ржавой крыше и вспоротым бокам. Во-вторых, по небольшой толпе заинтригованных горожан, которые, плюнув на столичный апломб, обступили доисторическую махину со всех сторон. Ну а в-третьих – по растопыренным колесам и погнутым в обратную сторону рессорам. Даже с моего семнадцатого этажа было видно, что микроавтобус загружен под завязку.
Габардиненц Ерванд оказывается отчаянно усатым услужливым мужичком.
– Дочка, я твоего отца очень уважаю, поэтому первым делом к тебе заехал, – выволакивает он из микроавтобуса огромный баул, – показывай дорогу, куда нести?
В квартиру Габардиненц Ерванд заходит с почтением, цокает восхищенно на сундук из состаренного дерева, трогает батареи отопления – не мерзнете? Нет? Молодцы! Шарит взглядом по стенам, углядев на стеллаже открытку с изображением Арарата, успокаивается. Отобедать отказывается и, выпив чашечку кофе, начинает прощаться:
– Пора. Мне еще в Новокосино ехать. А потом – в Мытищи. Посылки развозить.
– Спасибо вам большое.
– Зачем спасибо? Не ехать же порожняком. Вот и повез гостинцы. И вам хорошо, и мне приятно.
Я провожаю бердского гонца до лифта, возвращаюсь в квартиру. Разворачиваю любовно упакованные гостинцы. Пять килограммов меда, мешок чищеных орехов, две бутыли кизиловки. Ну и по мелочи: домашняя ветчина (целый окорок), бастурма, суджух. Три кило лаваша из отборной муки. Зрелая домашняя брынза. Пакетики с сушеной зеленью.
До весны можно в магазин не ходить.
Своих я вычисляю за секунду, каким-то звериным чутьем.
Отнесла сапоги в мастерскую.
Оформляет заказ мужчина, полный, голубоглазый, русоволосый. По виду – обычный житель средней полосы России. Но я-то вижу, что наш. Притом совсем земляк, бердский, или, может быть, карабахский.
– Здравствуйте, – говорю, – мне бы набойки поменять.
Зимой какие-то безголовые балбесы нарисовали на двери этой мастерской свастику. Сапожник аккуратно обвел ее краской, превратил лопасти в лепестки. Получился кривенький четырехлапый листик клевера. Символ счастья.
Он берет сапоги, рассматривает каблуки, недовольно хмурится. Даю руку на отсечение, думает: «Сразу видно – не армяне делали. Если бы армяне, фиг бы набойки так быстро отвалились». О, это великое самомнение маленьких народов!
– С вас триста рублей, – начинает заполнять квитанцию, – фамилия?
– Абгарян, – говорю я, пряча улыбку.
Он вскидывает глаза:
– Из Армении?
– Да. А вы?
– Тоже.
– Откуда?
– Из Берда.
– Я так и знала! Я сразу поняла, что вы мой земляк.
– Вы чья дочка? (Никогда не спросят имени. Всегда – чья дочка. Или – из какого рода.)
– Доктора Абгаряна.
– О, а я из рода Меликян. Знаю, ваша бабушка тоже была Меликян. С вас семьдесят рублей. Только за материал возьму, за работу не буду.
– Мне неудобно. Давайте я заплачу, как все.
– Обижаете, сестра. Или не приходите больше к нам, или платите сколько говорю.
Торговалась с пеной у рта. Заплатила сто двадцать рублей.
Недавно иду из магазина, он высовывается по пояс в окно.
– Подождите. Вы Наринэ Абгарян?
– Да.
– Сейчас! – выскакивает из мастерской, бежит, размахивая книгой.
– Подпишите, пожалуйста, дочкам. Я уже неделю вас караулю, по фотографии на обложке вычислил, что это вы.
– Как дочек зовут?
– Дарья и Марина.
– Вразнобой назвали?
– Ага, жена русская. Честно поделили.
– А если мальчик?
– Если мальчик, назовем обтекаемо.
– Как это обтекаемо?
– Максим. Чтобы и нашим и вашим.
Посмеялись.
Я делаю зарубку на памяти – Степан Меликян, сын Амирама Меликяна, сапожник. Потяни за ниточку – и воспоминания превратятся в ленту Мебиуса – как бы далеко ни уходил, возвращаешься в отправную точку. Каменный дом с потемневшей от времени деревянной верандой, большой яблоневый сад, обязательное тутовое дерево во дворе – в июне Амирам будет стряхивать спелые, сладкие плоды, легонько колотя дубинкой по веткам. А домашние будут ловить в большой тент стремительно темнеющие от медового сока ягоды.
Тент отзывается дробным стуком на звездопад плодов – пх-пх, пх-пх. Если спрятаться под ним, то кажется, что идет самый настоящий град. Маленький Степан подставляет спину падающим ягодам, ойкает. Выползает счастливый, шербетно-липучий, перемазанный с ног до головы тутовым соком.
Свежую ягоду пустят на варенье и сироп, а из перебродившей сделают самогон – тяжеленный, неподъемный, выпил – и слава богу, что выжил. В Берде пьют такое, какое приезжим не переварить. Воистину, что нашему человеку хорошо, то остальным – смерть. На том и держимся.
С громким стуком захлопывается дверь мастерской – Степан ушел принимать очередной заказ. Я стою, ошеломленная, посреди Москвы. В воздухе кружит мартовский снег. Если поймать его на кончик языка, он отдает горным родником. И совсем немного – подснежниками.
– Молодежь теперь умная, слова ей поперек не скажешь!
Старенькая Ясаман стряхивает с фартука невидимые крошки, одергивает рукав темного платья. Затягивает тяжелым узлом на затылке косынку, концы перекидывает на грудь. Садится на край скрипучей тахты, складывает руки на коленях, скорбно качает головой.
– Я Мишику так и сказала – раз хочешь, женись. Я же не могу ему запретить. А она, мало того что не армянка, так еще в городе родилась, наших порядков не знает, приготовить-подать не умеет. Стирку развесила шиворот-навыворот – пришлось бегом перевешивать, чтобы перед соседями не позориться.
Ясаман тяжело поднимается, достает из ящичка комода мятый бумажный кулек, отсыпает несколько крупинок ладана в специальную чашу, чиркает спичкой. Комнату затягивает сладковатым дымом церковной смолы.
– Крестится по-другому. Мы же слева направо крестимся, от сердца. А они – справа налево. К сердцу. Ладно, пусть крестится как привыкла. Но юбку-то можно человеческую надеть? Юбка такой длины, что, когда нагибается – глаза отводишь, чтобы не увидеть, какого цвета на ней трусы. У нее что, придатки в подмышках находятся? Простудить не боится?
Просыпаются настенные часы. Ясаман умолкает, пережидает их старческое дребезжание. Часы, надрывно кашляя, пробивают семь. Затихают.
– Сутра поднимается – и давай по деревне бегать, апрельскую слякоть развозить. Говорит – это кросс. Ай балам, какой кросс, коровы перестали от такого кросса доиться. Бегает, грудями трясет. Груди у нее такие – дай бог здоровья каждому. Сама худая, как щепка, а груди четвертого размера. Даже коровы переживают.
Ознакомительная версия.