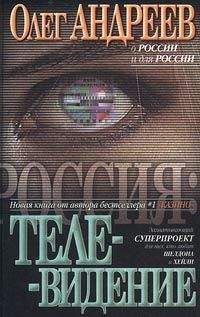Она нашарила его дрожащую руку и стала жадно водить ею по своей груди, по животу, словно это была вовсе не его рука, а какой-то посторонний предмет, безраздельно принадлежащий ей, Гале, и никому кроме. Водила, и постанывала, и неловко терлась о бедро мальчика, расставив ноги. У мальчика закружилась голова. Он, как во сне, стал тискать Галину грудь, обеими руками, остервенело, ему хотелось нарочно сделать ей больно, его мутило, но боли она, кажется, не чувствовала, только все истошнее стонала, все неистовее терлась, а потом запустила руку под резинку его тренировочных брюк, и стала мять, и шептала: «Ну… что же ты… ну… давай же!», – а его передергивало от омерзения, а у него в голове прокручивалась только одна дурацкая мысль: «У арфистки не могут быть такие грубые, такие неповоротливые пальцы!»
А потом ему самому стало нестерпимо больно, и он, вскрикнув, стряхнул с себя распаленную девушку.
– Ну и… ладно! – неожиданно успокоилась та. Привалилась к противоположной стене и стала, пошатываясь, застегивать растерзанную кофточку. Застегнулась кое-как, процедила сквозь зубы:
– Молокосос! – и опять начала обхлопывать себя в поисках сигарет.
Мальчику хотелось плакать. Опять он впал в странный ступор и стоял, замерев, у стеночки, впитывая спиной приятный металлический холод, глупо бормотал про себя: «Море волнуется три, морская фигура на месте замри! Морская фигура – замри!».
Галя в тщетных поисках все обшаривала свою одежду, матерясь шепотом, и бормотала: «Суки! Все вы – такие суки! И Васильев, мать его, самая большая сука! Я его. Из армии. Два года. Два! Как последняя дура! А он… Сучку крашеную. Шлюшку. Привез. Шлюх любите? Получайте тогда шлюху! Суки!», – а потом вдруг перегнулась пополам, и ее начало тошнить прямо на пол.
Мальчик вздрогнул, бросился прочь, в туалет, стал лихорадочно дергать дверь на себя. Дверь не поддавалась, потом неожиданно открылась в другую сторону, мальчик заскочил в тесный вонючий закуток, заперся и лишь тогда вздохнул с облегчением… Потом он, спустив штаны до колен, долго и тщательно отмывался, водя по ногам маленьким хозяйственным обмылком, смачивал виски, брызгал студеной водой в лицо. Успокоился только тогда, когда обмылок совсем истончился, иссяк, оставив крошечный липкий сгусток. Тогда мальчик высунулся в окно и подставил голову холодному встречному ветру.
В купе он вернулся уже под утро. Галя спала не раздевшись на своей полке. Она лежала на животе, трогательно засунув обе руки под подушку, и по-детски причмокивала во сне. Мальчика снова бросило в жар. Он поскорее забрался на свое место, отвернулся к стенке и укрылся одеялом с головой.
Его разбудила возня в купе. Он потихонечку выглянул из-под одеяла. Галя, уже тщательно подкрашенная и причесанная, собирала вещи. Подъезжали к Сарапулу.
На мальчика она даже не посмотрела. Ну и отлично, ну и ладно! Мальчик опять отвернулся к стене и так пролежал, пока она не вышла на своей станции.
А днем в Казани высадился надоедливый дедок, и два свободных места заняли молодая мамаша и девочка лет семи-восьми – обе очень чистенькие, приветливые и миловидные. До Москвы оставалось всего ничего.
Он до сих пор отчетливо помнил первое утро в этом городе – ранний-ранний июньский рассвет, влажную сероватую прохладу, усталую пеструю толпу, выплескивающуюся из вагонов под гулкие своды Казанского вокзала, гам, строгие голоса из репродукторов, стрекот сумок-тележек по плиткам, дежавю в тот момент, когда поднял голову и вместо неба увидел высоченный зеленоватый купол, расчерченный на квадраты. Совсем как в поезде, во сне, только еще страшнее, потому что вокруг были чужие, сонмы чужих, озлобленных, невыспавшихся, пахнущих дальней дорогой… Нет, это был уже никакой не «Революционный этюд» – этот город начался для него, как начинается второй концерт Рахманинова: мощно, угрожающе, в полную силу. Город давил со всех сторон, а он, маленький человечек с хорошими исполнительскими данными, входил в столицу как по ножам – в новых лакированных ботинках, которые жали невыносимо, с чемоданчиком, с сумкой, с тонкой нотной папочкой, хранящей этюд Шопена и извечную «Лунную сонату», в куцем провинциальном костюмчике. Потом были радужные бензиновые лужи на асфальте, мать с непривычки расшиблась на эскалаторе; кажется, они искали комнату где-то в центре, в переулочках и арках, заходили в темные подъезды, выходили обратно; и был дворик в Гнесинском, напротив концертного зала, тепло, и солнце, и нестерпимо жмущие ботинки, были какие-то кабинеты, где принимались документы, и дверь, самая-самая страшная, за которой сдавали экзамен. Был мальчик, сидящий на корточках под этой дверью в ожидании своей очереди, пока оттуда, из-за двери, лились звуки такой чистоты и силы, что мороз пробегал по коже; и было позорное бегство, сначала в мужской туалет, потом по лестнице – прочь, во дворы, и знакомая тяжесть в локтях, и тянущая боль в предплечьях. Все было – и все это до сих пор хранилось в памяти, не изнашиваясь.
Позже, когда его нашли, мать, понятное дело, закатила истерику со слезами и подвыванием, умоляла, собиралась бежать куда-то, договариваться о переносе, падать в ноги… Но, выпускница захолустного культпросветучилища, что знала она о предмете, который ей пришлось преподавать всю жизнь? По сути – ничего. Он больше не хотел ее слушать. Она не понимала, она никак не могла понять, что здесь и сейчас ничего у него не выйдет, это невозможно – физически невозможно.
Музыка музыкой, а уроки взрослого вранья за свою недолгую жизнь он усвоил в полной мере. И тогда он сказал ей: «Нет!». Так сказал, что она больше не посмела его уговаривать. Это была сделка. Он придумал эту историю, когда, сбежав с экзамена, стоял в какой-то темной подворотне близ училища. Он стоял, привалившись к сырой и холодной стене, и думал, думал, думал, и принял первое в жизни взрослое решение. Он вернется в Братск. Или нет, лучше махнет подальше от дома, куда-нибудь в Читу. Он будет учиться там. А мать, коль скоро ей это так важно, пусть хоть всему миру растрезвонит, будто он учится в Москве. Кто проверит? Там, в Братске ли, в Чите, он будет сидеть за инструментом дни и ночи, он постарается, он научится (он поклялся себе в этом), и вот тогда, только тогда вернется в этот грозно звучащий мегаполис. Не так и не таким, как сейчас, – в этом он поклялся тоже…
…С той поры изменилось многое – город потеснел, ужался, словно кусочек шагреневой кожи в одноименном романе, оделся в неон и глянец; изменилась и помельчала страна, изменился и сам мальчик, превратившись во взрослого мужчину, окреп, прижился, как приживаются все, кто, один раз вкусив «столичных щедрот», оседает здесь, пустил кой-какие корешки, завел даже девушку; ежемесячно, как примерный сын, высылал овдовевшей матери понемногу денег, снимал комнатку на окраине, – неплохо, словом, жилось ему в этой переменившейся жизни. Главное правило было одно – работать, работать и еще раз работать. В работе было его будущее, и смысл, и сила… Только одно для него всегда оставалось неизменным – музыка. Порой он ненавидел ее, порой она поглощала его всего без остатка, но всегда была с ним, в нем, никуда не исчезая. Вот и сейчас она звучала, заполняя собою все пространство вокруг, поверх голов взмывала под своды здания, а он плыл по ее штормовым волнам, прикрыв глаза… Музыка была внутри и вокруг, не было ничего, кроме музыки, желтый луч падал на руки, мир был огромен и вечен, враждебен – но не страшен…
Когда он открыл глаза, в окошечко просунулся увесистый волосатый кулак. Потряс в воздухе, потом снова утянулся наружу. Грохнула дверь, и в палатку ввалился Толстый. Несмотря на ранний час, Толстый был уже порядком навеселе.
– Ты чё, нах?! – прорычал он утробно.
Потом, ответа так и не дождавшись, приблизился вплотную и схватил за грудки. Легко приподнял с табурета и в сердцах тряхнул. Отшвырнул в угол. С полок на голову затумкали кассеты. Левое стекло в очках треснуло.
– Ты чё, нах! – снова зарычал Толстый, но теперь это был уже не вопрос, а явная угроза. – Ты, нах, мне всех клиентов распугаешь! Ты, нах, сегодня продал чего?! Чё вылупился, скрипач недоделанный?! Над нами весь рынок уже ржет, ты понял?!
Толстый схватил с полки магнитофон, выпотрошил, кассету с оттяжкой раздавил каблуком. Поозирался, что бы еще порушить, но, видимо, пьян был еще не сильно, потому что хозяин в итоге взял в нем верх над погромщиком.
– Короче, нах, слушай! Если у меня, у Толстого, в палатке еще раз, нах, Моцарта какого-нибудь услышу, ноги-руки повырываю! Понял, нах?! Ты, нах, мне хитов давай! «Юбочку из плюша» давай, нах! Всё! Больше, нах, не повторяю! Пидор вонючий!!!
С этими словами Толстый вывалился на улицу, громко шарахнув дверью. А он так и остался полулежать в углу, засыпанный кассетами, – лежал и мстительно думал: «Идиот же этот Толстый! Рахманинова от Моцарта отличить не может!!!»
С Марьей Марковной их познакомила теща. У них была теща – одна на двоих. Это случается – и, увы, чаще, чем хотелось бы. Если бы Катю спросили, когда ее мама превратилась в тещу, она бы не ответила. И никто бы не ответил на ее месте. Это начинается как хроническая болезнь – с едва заметных тревожных симптомов. Может быть, когда дочь-старшеклассница впервые приглашает в дом мальчика, лопоухого и нескладного, и, о чудо, вызывается сама испечь печенье, а мама чувствует укол ревности: потому что вот для этого, лопоухого, – печенья, а для нее – ну хоть бы макарон когда отварила. А может быть, еще в начальной школе, когда мама, придирчиво осмотрев гостей, пришедших на день рождения, отзывает на кухню и шепчет недовольно: «Не дружи с Ивановой, она из плохой семьи, и с Петровой не дружи, Петрова двоечница, а Сидоров – Сидоров вообще…» Или это случается еще раньше, когда она учит дочку, увлеченно перекапывающую песочек на детской площадке, что своими формочками делиться необязательно, – кто знает? Не на свадьбе же это превращение происходит? Нет, не на свадьбе.