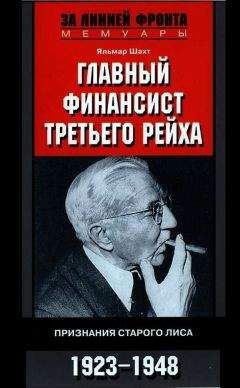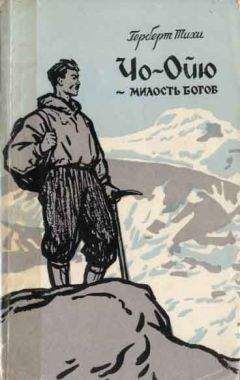– Да будет вам. Вы же прекрасно понимаете, в чём суть! Не вам ли принадлежат слова: «Там, по ту сторону строки, – Господня воля. Да, Господня».
Эти наши прогулки по утреннему Переделкину были для меня подарком судьбы. На ходу, когда было тихо, когда даже проходившие неподалёку электрички не так грохотали, С. И. выкладывал то, что сидя за столом с гостями не то чтобы утаивал, но не спешил выставлять на показ и словно вглядывался в туманную, загадочную даль. Фотографу-художнику Александру Кривомазову, как мне показалось, не всегда удавалось с диктофоном в руках разговорить Липкина. Тем более, что диктофон выходил из строя, и сам Саша, и Липкин с Инной сетовали из-за потраченного зря времени, из-за такой вот неудачи. Другое дело – разговор в движении. Оно доставляло ему наслаждение. И посох в его руке заставлял меня подозревать, что передо мной – патриарх, мудрец, поэт, воин, чей путь был «извилист и тяжёл», тот, кто видел казни и равнодушно реющих птиц «над расходящейся толпой».
Он рассказывал мне о Багрицком, о том, как тот по-отцовски опекал его, заставив в 1929 году уехать из Одессы в Москву, чтобы «не закисать в хохмочках, не куклиться, войти вослед за Исааком Бабелем в самую гущу литературных борений, но по-прежнему доверяться дрожжам украинской мовы». И, конечно, о Василии Гроссмане. О нём – с особой горечью, что подтверждается «Жизнью переделкинской»:
Прости меня, прости, прости, я виноват,
Я в маскарад втесался пёстрый.
А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
Его душа с моею сёстры.
Предмартовская нас тесней слила беда.
Делили крышу и печали;
Так почему же я безмолвствовал, когда
Его роман арестовали?
Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждёшь времён, но истина есть дочь,
В твоё родившееся время.
Тебя пугает власть? Не бойся, ты силён,
Пока для жизни предстоящей
Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
Возникший в купине горящей.
Екатерина Короткова, дочь Василия Гроссмана, подарила мне в Доме творчества копию рукописи своей статьи, написанной для какого-то журнала. Там шла речь о том, что отец её печатался чаще всего в журнале «Новый мир» и, конечно же, отнёс «Жизнь и судьбу» главному редактору Александру Твардовскому, своему фронтовому другу. Тот вернул ему рукопись и предостерёг:
– Вася, спрячь и никому не показывай. А то какой-нибудь идиот напечатает, и тебе придётся очень плохо.
Но это, продолжала Екатерина Васильевна, было время «оттепели», время мягкой цензуры. И отец надеялся, что роман можно будет напечатать, хотя бы с некоторыми сокращениями. Он отнёс своё детище в «Знамя»; там, в редакции, его обнадёжили, а сами сразу же отнесли «опасную» рукопись в ЦК. Книгу арестовали! Это был тяжелейший удар. Отец сказал дочери:
– Лучше бы я умер.
А летом 1987-го, говорила она, я работала над первой рукописью «Жизни и судьбы» и готовила её к печати в журнале «Октябрь» в России. Сохранился даже черновик у отцовского друга в Малоярославце. Им пользовались, когда делали второе издание книги. Сохранилось у друзей и несколько экземпляров окончательного варианта. Один из них попал за границу. Поэт Семён Липкин отправил его туда через Владимира Войновича. Рукопись оказалась в Швейцарии, где была издана на русском языке.
Сам С. И. тоже рассказал об этом. Если, как он говорил, ему не везло на войне, то «другое дело – Гроссман[42]. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал её на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие». Теперь известно – какое именно. В заключительной части «Жизни и судьбы Василия Гроссмана» С. И. говорит: «…за полгода до ареста романа в моём распоряжении оказались три – по числу частей «Жизни и судьбы» – светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далёком от литературы. В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне: „Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан – хотя бы за рубежом“ <…>. Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: „Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше“. Это был упрёк самому себе. И всё же в конце 1974 года я принял серьёзное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да ещё и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом. Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благоразумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу. Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда, был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахарова. Роман вырвался из оков».
Как видим, настойчив был и Липкин. И в этом он тоже был весь.
Шли годы, и Липкин начал уставать от прогулок за пределами Дома творчества, и мы ограничились тропинками рядом с корпусами и коттеджами. Главное – что он любил рассветы; об этом времени суток у него написано немало. Назову хотя бы такие стихотворения, как «Утро (“Плавно сходят к морю ступени…“)», «Утро было холодно, ненастно…», «Утро возгласом извечным…», «Утро по дороге в лес». В них – вера в то, что день будет длинным, бесконечным. И тем не менее однажды у него вырвалось: «О чём же мысль пришла? О раннем // сиянии дерев и трав, // о бесполезном // раздумье, слитым с умираньем; // о том, что мир в себя приняв, // мы в нём исчезнем».
Таким и предстаёт передо мной Семён Липкин – принявшим в себя мир и в нём исчезнувший, хотя и не утративший ни одного своего доброго деяния, ни одной строки, дарованной ему свыше.
Во второй половине 80-х вышел «знаменитый» библиографический справочник «Писатели Москвы», купив который, я тотчас начал листать страницы на „Л“: есть ли там Семён Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было! В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы (с закусочной «Эльбрус», с кинотеатром «Хроника», с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И всё-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г. Х. и Лисицком С. Ф., а также о Лисичкине Г. С. и Лисянском М. С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Словно предвидя нечто несуразное в этом роде, совсем ещё молодой Липкин (в сорок четвёртом) восклицал: «О патефоны без пластинок!..»
Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик. Тем не менее его боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учёт издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами[43]. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Это отмечали с восторгом его друзья по «Квадриге», куда, кроме него, входили «слагатель дивных строк», «искалеченный войной» Арсений Тарковский («Он как ребёнок был жесток, он как ребёнок был безгрешен»); Аркадий Штейнберг («художник и поэт, в стихах и в красках был южанин, но понимал он тень и свет, как самородок-палешанин», «был долго в лагерях…»); Мария Петровых – «дочь пошехонского священства», чей «муж-юноша погиб в тюрьме», та, что «шла по дороге безымянной, и в то же время был размах, воспетый Осипом и Анной». Вот таким было окружение Липкина. Об их содружестве – например, стихи Штейнберга:
Мы не одной и той же песней
Взбаюканы от первых дней.
Но встреча наша тем чудесней,
И цепи наши тем прочней.
Жизнь отковала эти звенья
И закалила в добрый час
И языку сердцебиенья
Насильно обучила нас.
О многом говорит тот факт, что первая книга Семёна Липкина («Очевидец») вышла в «Советском писателе», когда автору было уже едва ли не шестьдесят лет (!!). Критика относилась к его стихам брезгливо, недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в «альбомности» и «враждебности». А тут ещё масло в огонь подлило его и Инино участие в скандальном «Метрополе», и недруги предрекали ему полное забвение. В это нелегко сейчас поверить, но так оно и было: утверждалось, что век его поэзии короток! С. И. ведал, какие они, лжепророки, в его восточных переводах им определено немалое место. В пику им (но, конечно, не только поэтому) Иосиф Бродский составил его книгу «Воля», которая появилась в начале восьмидесятых в США. Затем там же увидела свет новая книга «Кочевой огонь». Однако в ту пору, пору идеологического шабаша, Липкину грозили, что его стихи на родине действительно пересекутся с «линией небытия», что их не допустят к читателям.