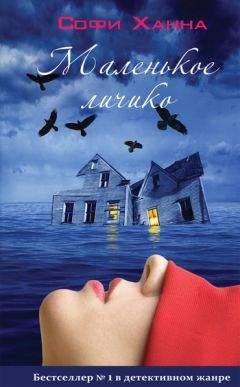– Она здесь больше не живет.
– А где она живет? – спросил Тишкин.
– Нигде, – по-хамски ответил голос. Видимо, ему надоели звонки и вопросы.
А может, и вправду нигде. Только в его памяти. Тугой сгусток страсти. И сгусток жалости. Это не размывалось во времени. Это осталось в нем навсегда.
В том краю была одна-единственная улица, по которой ходили громадные автобусы – неслись, как мотоциклы. Если перейти эту опасную дорогу, открывалась еще одна куцая улочка вдоль магазинчиков. Даже не улочка, а помост. На нем стояли пластмассовые столы и стулья. По вечерам включали большой телевизор, и все местные жители собирались перед телевизором. Они были смуглые, черноволосые, в белых рубахах и черных штанах. Похожие на армян, на итальянцев, на любой южный народ. Сообща смотрели спортивные передачи и умеренно запивали пивом.
Мимо бродили отдыхающие. Тоже присаживались за столики.
Немцы выгодно отличались сдержанностью одежды и манер. Русские евреи выпячивали себя голосом и телом. Всенепременное желание выделиться.
Тишкин шел и приглядывался: с кем бы провести вечер. Убить время. «Получить удовольствие», – как говорила старуха.
И вдруг ноги сами понесли его вперед и вперед – туда, где в одиночестве сидела невероятная немка, отдаленно похожая на Алину. Тишкин заметил две краски: золотое и белое. Белые одежды, золотая кожа и золотые волосы. Из украшений – только браслет, тоже золотой и массивный.
Тишкин подошел и остановился. Он хотел спросить разрешения – можно ли сесть с ней за один столик, но не знал, на каком языке разговаривать.
– Это ты? – спросила немка по-русски. – А что ты здесь делаешь?
– То же, что и все, – ответил Тишкин.
Это была Алина, Тишкин не верил своим глазам.
– Садись, – предложила Алина.
Тишкин сел.
Они никак не могли начать разговор. Он стеснялся спросить: «Куда подевался твой рак?» Но именно этот вопрос был главным.
– Я тебе звонил. Ты переехала…
– В Германию, – уточнила Алина.
– И ты живешь в Германии? – удивился Тишкин.
– И в Германии тоже.
– А где еще?
– Где хочу.
– Ты вышла замуж за миллионера?
– За Каравайчука.
– На самом деле? – удивился Тишкин.
– А что тут такого?
– Ты же его не любила.
– Правильно. Я тебя любила. Но ты был где-то. А Каравайчук рядом.
Это было справедливо. Тишкин промолчал.
– А ты как? – спросила Алина.
– Плохо. Не снимаю. Просто сижу и старею. Приехал сюда тормозить процесс. Все болит, особенно душа.
– А почему ты не снимаешь?
– Денег нет. Государство дает треть. А остальные надо где-то доставать. Никто не дает.
– А сколько тебе надо? – спросила Алина.
– Полтора миллиона… долларов, – уточнил Тишкин.
– Я тебе дам.
– У тебя есть полтора миллиона? – не поверил Тишкин.
– У меня есть гораздо больше.
Подошел официант. Тишкин заказал себе виски и сок для Алины.
– Это деньги Каравайчука? – спросил он.
– Почему? У меня свой бизнес.
– Какой?
– Не бойся. Не наркота.
– А где же можно так заработать?
– Я умею находить деньги под ногами.
– У тебя мусороперерабатывающий завод?
Алина удивленно приподняла брови.
– Под ногами только мусор. Больше ничего.
– Не вникай, – предложила Алина. – Ты не поймешь. В каждом деле свой талант. Ты снимаешь кино, а я бизнесмен.
– Тебя Каравайчук раскрутил?
– Он дал мне начальный капитал. А раскрутилась я сама.
Официант принес виски в тяжелом стакане и соленые орешки. Поставил перед Алиной сок. Тишкин расплатился. Алина, слава Богу, не остановила. Не лезла со своими деньгами. У нее хватило такта.
– Я бы не дал тебе начальный капитал. Я дал бы тебе только головную боль, – заметил Тишкин.
– Ты дал мне больше.
– Не понял…
– Помнишь, ты лег со мной… Тебе не было противно… После этого со мной что-то случилось. Я тоже перестала быть себе противна. Я себя полюбила… Если бы не это, я бы умерла. Ты дал мне жизнь. Это больше, чем полтора миллиона.
– Но они не вернутся, – честно предупредил Тишкин. – Кино денег не возвращает. Ты их просто потеряешь, и все.
– Ну и фиг с ими, – легко проговорила Алина. – Эти не вернутся, другие подгребут. Для того чтобы деньги приходили, их надо тратить. Если хочешь свежий воздух, нужен сквознячок.
Тишкин пил и неотрывно глядел на Алину. Он видел ее три раза. Первый раз – юную и нищую. Второй раз – смертельно больную, поверженную. И третий раз – сейчас – сильную и самодостаточную. Хозяйку жизни. Три разных человека. Но что-то было в них общее – женственности золотая суть. Женщина. Это была ЕГО женщина. Тишкина всегда к ней тянуло. И сейчас тянуло.
– А где Каравайчук? – неожиданно спросил он.
– В номере. Футбол смотрит. А что?
Тишкин все смотрел и смотрел. Она была красивее, чем прежде. Как созревшее вино.
– Ты меня еще любишь? – спросил он.
– Нет, нет… – испугалась Алина. – Вернее, да. Но – нет.
– Понял.
Эти полтора миллиона отрезали их друг от друга. Тишкин мог бы отказаться от денег, но это значило – отказаться от кино. А кино было важнее любви, важнее семьи, равно жизни.
– Ты вспоминаешь прошлое? Или хочешь забыть? – спросил Тишкин.
Алина закурила. Потом сказала:
– Прежде чем дарить, Господь испытывает. Без испытаний не было бы наград.
– Ты в это веришь?
– А как не верить. Ты же сам мне все это и говорил.
– Но я не Бог…
– Знаешь, как они здесь обращаются к Богу? «Адонаи». Это значит «Господи»…
Зазвонил мобильный телефон. Алина поднесла трубку к уху. Трубка – белая с золотом. Разговор был важный. Алина вся ушла в брови, давала распоряжения. Из нее высунулась новая Алина – четкая и жесткая, которую он раньше не знал.
Тишкин встал и попрощался. Алина на секунду отвлеклась от важного разговора.
– Оставишь мне на рецепции номер твоего счета, – распорядилась Алина.
– У меня его нет.
– Открой.
– Здесь? – не понял Тишкин.
– Лучше здесь. Вернее.
Алина снова переключилась на мобильный телефон. Она и раньше так умела. Переключаться сразу, без перехода.
Тишкин направился в свой отель.
Воздух был стоячий, совсем не двигался. Было душно и отчего-то грустно. Хотелось остановиться и стоять. И превратиться в соляной столб, как жена Лота.
Мимо пробежала кошка. Она была другая, чем в России. Египетская кошка на коленях Клеопатры: тело длиннее, уши острее, шерсть короче. Такую не хотелось взять на руки.
Тишкин разделся на берегу и вошел в море голым. Густая чернота южной ночи надежно прятала наготу. Море было теплее воздуха и обнимало, как женщина.
На лицо села муха. Откуда она тут взялась? Мертвое на то и мертвое, здесь ничего не росло и не жило. Никакой фауны. Тишкин согнал муху. Она снова села. Тишкин вытер лицо соленой ладошкой. Муха отлетела.
Неподалеку колыхалась чья-то голова.
– Что? – спросил Тишкин. Ему показалось: голова что-то сказала.
– Я молюсь, – сказал женский голос. – Я прихожу сюда ночью и говорю с Богом.
– По-русски? – спросил Тишкин.
– Нет. На иврите.
– Как это звучит?
Женщина заговорила непонятно. Тишкин уловил одно слово: «Адонаи».
– И что вы ему говорите? – спросил Тишкин.
– Ну… если коротко… Спасибо за то, что ты мне дал. И пусть все будет так, как сейчас. Не хуже.
– А можно попросить лучше, чем сейчас?
– Это нескромно.
Женщина отплыла, вернее, отодвинулась. Растворилась в ночи.
На противоположном берегу сверкали отели. После отелей шла возвышенность, и огни были брошены горстями на разных уровнях.
– Адонаи, – проговорил Тишкин, – спасибо за то, что ты мне дал: меня самого, моих родителей и мою дочь. По большому счету больше ничего и не надо. Но… – Тишкин задумался над следующим словом. Сказать «талант» нескромно. Призвание. Да. – Мое призвание мучит меня. Не дает мне спокойно жить. Разреши мне… – Тишкин задумался над следующим словом, – выразить, осуществить свое призвание. Ты же видел, как мне хлопали. Значит, людям это надо зачем-то… Но даже если им это не обязательно, это надо мне. А может быть, и тебе…
Тишкин смотрел в небо. Небо было другое, чем в России. Ковш стоял иначе.
Артемьев любил любовь. Женщины – как цветы, каждая неповторима. У каждой своя красота и свой аромат. Невозможно пройти мимо. Хочется остановиться, сорвать и понюхать. А потом, естественно, выбросить. Что еще делать с сорванным цветком…
И женщины его тоже любили. За слова. За нежность. Таких слов и такой нежности они не знали ранее. И уже не могли без этого жить. Однако наступал момент разлуки. Артемьев не умел красиво расставаться. Просто исчезал, и все. Трусил. Не хотел выслушивать чужие трагедии.
Брошенные женщины вели себя по-разному. Гордые – не возникали. Исчезали, страдая. Другие – не мирились, преследовали и даже мстили. Одна из них, по имени Элеонора, пришла к его дверям и стала беспрерывно звонить. Артемьев не открывал, поскольку был не один, а с Розой.