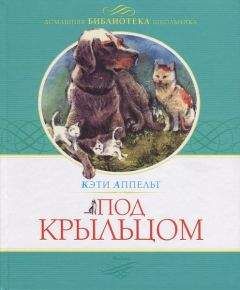Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал профессор в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.
Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.
Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.
В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.
Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, грохочущее железом пространство.
За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.
К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не провидела.
Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!
И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.
Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания:
«Примите поздравления новорожденными. Серго».
Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.
Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившиеся плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась взять их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременным появлением двух враждебных существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.
Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.
А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.
Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.
Все, все, все они… И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» – было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.
Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиного одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.
Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе – обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немыслимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.
Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.
Тогда он и отправил домой три дня обдумываемую телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.
В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию на него получают. Все лучше, чем безотцовщина.
Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, а ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих…
Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.
Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.
Со временем она перестроилась: не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. По шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно взывая к жестокосердному мужу.
Уложенные валетом, толсто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке – Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, – девочки довольно долго спали в одной кроватке. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще Феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом: